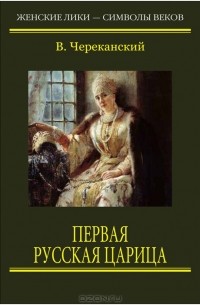Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава VII
Пожарный набат, грозно раздавшийся на всех колокольнях Москвы 12 апреля 1547 года, не унимался до самой осени, когда вся столица представляла уже одно страшное дымящееся пепелище. Монастырские летописи вели статистику пожарищам преимущественно по числу сгоревших церквей. Москву жгли и свои, и чужие люди. Жгли ее и князья, и буйные мизинные люди. Первыми поджигателями летописи считают рязанских князей Глеба и Олега; последний дружился с татарами, чтобы только укоротить разраставшиеся московские длани.
Разумеется, не мягче рязанских князей были и крымские татары, слепо повиновавшиеся турецким султанам, инстинктивно опасавшимся разрастания Руси. Во время набега Девлет-Гирея, проведшего в Москве всего несколько часов, не стало ни посадов, ни Китай-города. Перед его полчищами бежали под кров Москвы все окрестные селения, чему только и можно приписать монастырское, несомненно преувеличенное, сказание о 800 тысячах погибших на пожарищах человек. По другим летописям, воинов и обывателей погибло в этот татарский набег 120 тысяч человек.
Много загадочного было в историческом пожаре 1547 года. Огонь перебрасывало невидимыми руками из Китай-города в Большой посад; по временам вспыхивали огоньки и в деревянных постройках самого Кремля. В народе говорили, что эти вспышки были только предостережением большого пожарища. Так оно и случилось.
Прирожденная черствость к чужим страданиям уступила на этот раз в сердце Иоанна Васильевича место скорби. Правда, он и сегодня, объезжая пепелища, топтал младенцев, но настроение народной массы не поощряло его ни к милости, ни к благоволению. Все, кто встречался ему на пути, скрывались от него в переулки и тупики, не стесняясь выкрикнуть укоризненно: «За свои ли грехи страдаем?»
На церковных папертях появились юродивые лохматого, дикого вида, неистово гремевшие веригами; они призывали народ Божий к покаянию, а народ Божий с угрозой отвечал: «Да кому и в чем каяться?» При проезде царя выкрики эти были особенно громки и внушительны.
В царской свите было немало шпионов, которые зачали свой род еще при великих князьях, но тогда они были только любителями, старавшимися доказать свою преданность князю собиранием добрых и недобрых слухов. Теперь они составляли своего рода дружину при пыточной избе. Впоследствии из этой дружины была образована опричина. Старшим, по слухам, числился в ту пору Малюта Скуратов, выделившийся своим умением узнать все, что интересно царю.
Улучив способную минуту, он подкрался теперь к Иоанну Васильевичу и доложил ему шепотом: «Все новгородцы мутят. Винят тебя, царь, в беззаконии, а сами то и дело кидают в огонь холопов Глинского. Без пыток не обойтись. Повели!
Однако царь пропустил мимо ушей этот донос старшего пыточника. Видно, он был негласным ставленником Шуйских, так как ни об одном из них не обмолвился худым словом.
По Москве про Глинских ходило много сплетен, которые тешили народную злобу. Про княгиню Анну Глинскую говорилось, что она самолично окропляла улицы водой, в которой обмывала предварительно сердца умерших младенцев; и где падала капля такой воды, там тотчас же поднимался огненный столб. Говорили, что она и в Кремль пробиралась, да ее остановил юродивый Василий. Ей хотелось-де погубить в огне царицу Анастасию Романовну за то, что она перетянула к себе, не иначе как чародейством, всю любовь москвичей, благословлявших до ее времени весь род Глинских, как святительский род, оберегавший всю Литву. Недруги Глинских, однако, мыслили иначе: Литва-то только и рожала ведуний да чародеек.
Поравнявшись с Успением, весь царский кортеж остановился точно по небесному приказу. Москву везде обволакивало тучами едкого густого дыма, а здесь эта туча ворвалась в храм и как бы изготовилась задушить всех молящихся. Престарелый митрополит не успел докончить и молитвы об отвращении Божьего гнева, как силы покинули его, и он в полном облачении упал ничком. Христолюбивые прихожане успели, однако, поднять его на руки и вынести из храма. В притворе нашелся сосуд с освященной водой, с помощью которой привели в чувство святителя. Случай этот удвоил силы юродивых, и на их призыв: «Кайтесь, православные, кайтесь, велики наши беззакония, нет им числа и меры, кайтесь!» – вся площадь Успения покрылась коленопреклоненными. Сквозь эту толпу едва-едва пробрался царь со своей свитой.
Далее он проследовал на Воробьевы горы, куда и помчался гонец, чтобы приготовить к приезду хозяина дворцовые хоромы.
Еще по дороге на горы Иоанну Васильевичу доложили, что Кремлю не миновать пожарища и что уже занялись дворцовые службы. Загорелись и главные сени, из которых шла лесенка в терем царицы, но рынды успевали гасить искры вовремя. У самого же подъезда стояли разбойничьи возки на случай, если бы царице угодно было покинуть Кремль. Куда, однако, ей направиться?
На большие московские пожарища всегда набегали разбойники из волостей пригородных и псковских. Цель их набега была одна – порыться в пепелищах, а по возможности и пограбить погорельцев. Пограбить москвичей не считалось грехом; ведь и москвичи вырезывали, по поговорке, пятки из-под живых людей. Отсюда на улицах и площадях шла обычно смута, в которой не всегда ограничивались одной кулачной расправой. Дьякам и тиунам, если их обнаруживали в сутолоке, доставалось более нежели обыкновенным москвичам. Впрочем, более всего доставалось дворцовой челяди и дворцовым служкам старшего ранга. Рынды, если только решались выйти из дворцовых ворот, знали наперед, что им начнут улюлюкать, а далее, пожалуй, сорвут и шапку с головы и обольют какой-нибудь гадостью.
Пока в кремлевском дворце рассуждали, где безопаснее было бы укрыться царице, с Воробьевых гор прискакал гонец с приказом Иоанна Васильевича доставить государыню как можно быстрее и бережнее в Воробьевский дворец, за что выйдут большие награды. Гонцом был Лукьяш. Скача с Воробьевых гор, он так и не вкладывал в ножны свой бердыш и, пожалуй, ткнул им одного-другого смутьяна, вздумавшего улюлюкать пьяным голосом. Поэтому прежде, чем выступить в дорогу, он собрал всю свою команду рындов и по секрету от самой царицы взял с них пред иконой Иоанна Воина клятву лишиться живота, а не допустить до царицыного возка ни одного разбойника.
Рынды не только охотно поклялись перед иконой, но и рассудили между собой служить царице без всякой мысли о награде; все они прямо-таки обожали царицу, а больше всех ее любил восьмилетний Морозов, гарцевавший теперь у возка на ретивом коне и с длинным отцовским бердышом. Случилось как-то царице погладить его по головке, и он с детской восторженностью всем и каждому заявлял, что царица погладила его по головке. «Смерть приму за царицу!» – оканчивал он обычно свой рассказ о таком радостном в его жизни событии.
По дороге все же нашлись смутьяны, которым вздумалось улюлюкать, но им не пришлось испытать усердие охранников. Москвичи знали царский возок и, увидев царицу, сами быстро расправились с пришлыми гулящими людьми. Досталось и псковичам и новгородцам. Не одному из них пришлось перевязывать потом челюсти паклей. Во дворце на Воробьевых горах встреча царя с царицей была наиболее сердечная за всю их жизнь. Не стесняясь присутствовавших, он обнял Анастасию Романовну как Богом посланную помощницу и советницу. Ни один рында не сморгнул и глазом, когда их грозный властелин поцеловал – и редкость и ужас! – всенародно руку жены. Впрочем, один маленький Морозов хихикнул довольно смело. Царь это заметил, но не рассердился.
– Ты каких? – спросил он глупого мальчугана.
– Морозовых, царь-батюшка, Морозовых.
– Твой отец в бегах?
Отрок не посмел ответить.
– Он казанскому царю служит и теперь подбивает его войной на меня? Вот так рында! Кто к тебе его приставил? – обратился царь к своей супруге.
– Предан он мне, как верный пес. Да и за тебя пойдет по одному моему слову хоть на татарские пики.
– Ну чародейка же ты! Однако мы сегодня не пили и не ели. Подать сюда хлеб-соль.
Морозову выпала честь исполнить это поручение. Зная, какое опасение может запасть в душу мужа, Анастасия Романовна принималась первая за всякое кушанье, нисколько не боясь отравы. Иоанн Васильевич не мог не оценить ее поступка, хотя нервозность его все больше увеличивалась.
С Воробьевых гор открывалась в ту пору картина безжалостного разрушения и всенародной скорби. Квартал за кварталом гибли под яростью всепожиравшего пламени. Огненная волна встречалась на своем пути с другой волной и, соединившись в одно море, двигалась далее, все истребляя. Местами переставал греметь колокольный набат, что наводило на мысль о разрушении колокольни или о том, что самые колокола, поддаваясь тлетворной стихии, размягчались, плавились и текли огненными ручьями. Грохот от падения стен и кровель разносился повсеместно. Рвущая снасти сильная буря на морском просторе была бы лишь слабым подобием огненных шквалов. Все рушилось, и ничто не спасало. Людские рыдания не западали в душу. Рыдала вся земля и корчилась в нестерпимых муках.
Вскоре после того как царица оставила кремлевский дворец, гонцы доставили весть на Воробьевы горы, что Кремль подожжен и что в самом дворце хозяйничают люди с факелами, жаждя попользоваться царским добром.
Последняя весть точно пробудила Иоанна Васильевича от дремоты. Ему вздумалось поскакать самому в Кремль и постараться спасти некоторые излюбленные им вещи. Первее всего ему хотелось спасти подарки, присланные ему английской королевой с первыми купцами, рискнувшими пробраться в Холмогоры. Желание это ошеломило царицу до того, что никакой этикет не мог ее сдержать. Она уцепилась за епанчу супруга и замерла с восклицанием: «Не пущу, не пущу! Время ли думать о пустяковых подарках королевы! Москва гибнет, царство рушится, а ты займешься спасением ковша да чаши от рук твоей аглицкой гордячки, не пущу!»
Иоанну Васильевичу даже понравился этот поступок жены, не разомкнувшей свои маленькие слабые руки, пока он не удостоверил крестным знамением, что никуда не поедет. «Пусть-де горят и королевины подарки. Ему ли, царю всея Руси, гоняться за какими-то чашами, да стеклянными побрякушками. Вот он пошлет ей двадцатипудового осетра, это дело!»
Анастасия Романовна могла теперь не беспокоиться; слово было дано верное, бесповоротное. Добрая стопа меда, доставленного от князя Сицкого, послужила своего рода заключительным знамением твердости слова Иоанна Васильевича, который еще раз повторил: «Да разве у меня на Руси не сделают такую чашу? Прикажу – сделают».
Вскоре до царя дошла весть, что в церкви убили его дядю. Это известие возбудило в его душе крайне разноречивые чувства. Дядю он не любил. Князь Глинский довольно неосторожно выставлялся в боярской среде властным советником и чуть ли не правителем царства. В своей политической слепоте он не заметил, что племянник его быстро обрел ту политическую силу, при которой уже было недопустимо никакое вмешательство в действия царя.
И все же первым побуждением его при вести об убийстве дяди было отправиться не медля ни минуты на место происшествия, согнать туда всех псковичей и исказнить их тут же лютой смертью. Народу Московского государства следовало понять, что если на небе живут гром и молния, то и земля насыщена беспощадной грозой. Однако после недолгого размышления Иоанн Васильевич оставил мысль о личной поездке на место преступления. Вместо этого он повелел немедленно призвать к нему нового начальника Пыточной палаты и Разбойного приказа Малюту Скуратова.
Малюта словно ожидал, что его позовут. Перед царем он явился не с пустыми руками. В корзине он принес немало предметов чужой аглицкой работы.
Взглянув на своего нового начальника Разбойного приказа, Иоанн Васильевич невольно улыбнулся, вспомнив недавний разговор с боярами, которым сделалось известным, что в индийском царстве живет удав-змея. Тому, кого она определит себе в жертву, лучше перекреститься и умереть, а не то удав-змея привскочет и своей ужасной пастью откусит начисто голову. Очень похожим на это диво представлялся царю его Малюта.
– Прости, государь, твоего подлого раба, а поступил я так по тайному во время грозы велению. Мне было сказано: когда кремлевский дворец будет в огне, беги туда, выхвати из полымя королевины подарки и поднеси царю.
Царь не раз любовался подарками королевы и даже изучал ее гербы и вензеля, подлинность которых была вне сомнения.
Москва знала, что царь очень дорожил дружбой с королевой Елизаветой и даже выражал когда-то намерение сочетаться с ней законным браком, но Анастасия Романовна взяла, не зная того сама, верх над соперницей.
Поблагодарив Малюту за услугу, Иоанн Васильевич сказал только одно слово.
– Слышал?
– Государь, дело в ходу. Смутьяны разнесли палаты Разбойного приказа по бревнышку, веревки перерезали, а жаровни испакостили, но я уже открыл сыск и допросы временно веду в церковной сторожке. Двух псковичей на дыбы выставил, но признания в убийстве князя еще не получил. На углях скажут. Не осуди, если что не так. Внове для меня твое великое дело, а только разбойников изведу. Бояре делу помеха, но как повелишь?
Отпуская Малюту с выражением доверия и благоволения, Иоанн Васильевич предоставил ему большие права, нежели те, какими пользовался Семиткин. Малюта понял, что отныне он всесильный человек во всем Московском государстве. Ему не будут ставить в вину, если он доведет пытаемого, хотя бы и боярина, до смерти, будь то на дыбе, на жаровне, под батогами…
После беседы с начальником Разбойного приказа Иоанн Васильевич ощутил потребность омыть душу от греховных дел. Он уединился в моленную и трижды прошел полные четки с душевным сокрушением и молитвенными возгласами. В мгновениях высшего возбуждения он бил себя в грудь и распластывался на каменном полу перед образами святителей. В этом настроении его никто не смел беспокоить. В такие покаянные дни он питался одной только просфорой, невидимо поставляемой в оконце моленной, и водой. Спал он здесь же в уголке без подушки на голом полу. У него появлялась даже затаенная склонность к веригам.
В такие припадочные дни дворцовая стража берегла его покой пуще глаза. Глядя на Воробьевы горы издали, можно было думать, что во дворце замерла всякая жизнь и что даже мимолетной птице запрещено махать крыльями и подавать голос. Только на царицыной половине можно было заметить проблески жизни.
Вот эту-то половину и не уберегла стража. Сначала одна погорелка пробралась под окна царицы, никто на нее не зыкнул, никто не хлопнул над ее головой длинным батогом, точно она была приглашена на званый пирог. Следом за ней другая, третья, и наконец прорвалась целая толпа. Каждая погорелка вела за собой или несла на руках мальчонку или девчонку, а то двух ребятишек, раздетых догола, опухших, от недоедания не державшихся на ногах. Вся ватага некоторое время стояла молча перед окнами, но стоило одной завопить, как поднялось общее рыдание.
– Царица, взгляни на нас милостиво, мы изголодались; от мякины, которую и огонь не берет, распухли животами, на ногах не держимся, голы, босы, все погибло в огне, дети опаршивели, дай нам хлебца, царица, будь милостива! Умоли за нас царя земного, а мы станем молить за вас Царя Небесного…
Анастасия Романовна могла ответить на эту мольбу лишь тем, что сама расплакалась и велела вынести погорелкам все, что можно было найти на кухне и в поставцах. Среди причитавших погорелок возникла потасовка. Одна выставляла своего болезненного ребенка в доказательство права на ломоть каравая, а другая показывала еще более болезненного с вывернутыми ногами и перекрученной шеей. Поднялся гвалт, испугавший саму царицу. Однако толпе пришлось умолкнуть. В сенях послышался стук костыля о каменный пол: то сам царь земной, потревоженный шумом, вышел из моленной и тотчас прикрикнул на стражу: «Взять – огреть их батогами!»
Достаточно было этого окрика, чтобы вся ватага отхлынула от стен дворца и развеялась по склонам Воробьевых гор. За ней погнался было Лукьяш, но заметил знак царицы: «Не смей, мол, батожить погорелок!»
«Ох, исказнит он меня, исказнит! – подумал Лукьяш. – Уж коли головой затряс, так не жди пощады… да пусть казнит!»
Но здесь царица вышла из своих комнат и бестрепетно взяла за руку супруга.
– Мой любый! Одна я виновата! – проговорила она со слезами. – Одну меня накажи. Я приняла их как своих гостей; страх было глядеть на эту голую и голодную детвору. Что повелишь, то и будет, а только Божье наказание напущено на землю, не усугубляй гнев Божий, не усугубляй.
Царь смягчился и ушел в моленную, причем наложил на себя постничество на новую неделю. Анастасия Романовна заперлась у себя и наплакалась досыта, потом велела пригласить к себе иерея Сильвестра.
Москва же продолжала неудержимо пылать. Огонь перебросился в Замоскворечье. Запылали монастыри – Воздвиженский, Никитский, Георгиевский, Ильинский. Пламеневшие головни, взлетая на воздух, разносили повсюду печать Божьего гнева.