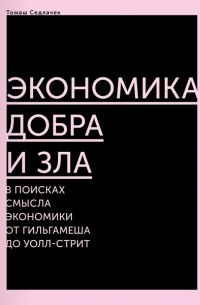Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
…И грешная цивилизация?
И наоборот, между строк многих ветхозаветных историй можно найти неприятие городской цивилизации и оседлого образа жизни. Именно обитающий все время на одном и том же месте «злой» земледелец Каин (хлебопашество требовало городского образа жизни) убил пастуха Авеля (охотники и пастухи были кочевниками, не закладывали городов, их образ жизни требовал постоянного передвижения с одних охотничьих угодий или пастбищ на другие). Нечто подобное встречается и в истории об оседло живущем Иакове, который обманывает своего старшего брата охотника Исава и лишает его отцовского благословения ради своей выгоды. Часто (особенно в древнееврейских писаниях) города представлялись символом греха, упадка, вырождения – нечеловечности. Евреи изначально были народом кочевым, избегающим городов. Не случайно первым крупным городом, упоминаемым в Библии, является гордый Вавилон, превращенный позднее Господом в прах. Когда Аврааму и Лоту пастбища становится недостаточно, Лот выбирает для будущей жизни место, где уже существуют развитое хозяйство, архитектурные и инженерные сооружения, связанные с жизнеобеспечением (Содом и Гоморру), а Авраам уходит дальше в пустыню. Что случилось с обоими городами, напоминать, видимо, не требуется.
В Ветхом Завете природа поэтически возвышается. В «Эпосе о Гильгамеше» мы этого не наблюдаем. Ветхозаветная Песнь Песней описывает любовные отношения через символику природы. Не случайно все хорошее у любовников происходит за городскими стенами, в винограднике, в саду. И наоборот, все плохие события случаются в городе: здесь влюбленные не могут найти друг друга, их избивают и стыдят стражники. На природе же, в винограднике безопасно, влюбленные наедине друг с другом, им никто не мешает, как они того и желают.
Если говорить коротко, то природа и естественность для иудеев несли в себе положительный заряд, а городская цивилизация – отрицательный. Первоначально Божий «алтарь» был передвижной, и на стоянках он располагался «всего лишь» в палатке, скинии (отсюда понятие «скиния Господня»). Цивилизация человека будто бы только портит: чем ближе он держится к природе, тем больше он человек. Для того чтобы быть хорошим, человеку не нужна цивилизация. В отличие от эпоса, зло для иудеев находится внутри городских стен и заключается в самой цивилизации.
Такая точка зрения на роль естественного состояния в древнееврейской (и нашей) культуре претерпела дальнейшее развитие. Евреи выбирают себе царя (при однозначном несогласии пророков Божьих) и поселяются в городах, где в конечном счете размещают скинию Господню и строят храм. Город Иерусалим впоследствии обретает для религии в целом исключительное значение. Древнееврейское мышление еще больше склоняется к городской модели, что становится очевидным уже во времена раннего христианства. Достаточно прочитать, например, Откровение Иоанна Богослова – и сразу становится понятно, как изменилось с ранних ветхозаветных времен представление о рае, когда раем был сад. Иоанн описывает свое видéние, в котором небеса – это Новый Иерусалим, город, где и находится рай, где можно в деталях разглядеть стену и точно ее измерить (!), где улицы сделаны из золота, ворота из жемчуга. Здесь есть древо жизни и текут реки, но больше описаний природы в последней книге Библии не встречается.
Это явление прекрасно отражает происходящие в то время изменения в восприятии человеком своего естественного состояния. Христианство (под влиянием античной культуры) уже не считает естественность человека однозначно положительной и не относится к природе столь идиллически, как ветхозаветные пророки.
Влияет ли все это на экономику? Больше, чем мы можем себе представить. Если считать, что человек по своей природе добр, то для регулирования коллективного социального поведения сильная рука правителя не нужна. Если людям изначально присуще стремление (склонность) к добру, то государство, правитель или, если хотите, гоббсов Левиафан не должны подменять его в этой роли. А вот если мы, наоборот, примем гоббсово ви́дение естественного человеческого состояния как ориентированного на насилие, войну всех против всех, когда homo homini lupus, человек человеку волк (зверь!), то людей необходимо цивилизовать (из волка сделать человека) сильной рукой правителя. Если человек от рождения не наделен стремлением делать добро, значит, оно должно быть привито ему сверху путем насилия или через угрозу насилия. Так как в естественном состоянии «нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли… ремесла, литературы», то «жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна».
И наоборот, хозяйственная политика может дать гораздо больше свободы людям, если правитель верит в природу человека, в его изначальное стремление к добру, которое только и нужно что лелеять, направлять и поддерживать (законами, например).
С точки зрения развития экономической мысли интересно взглянуть на различия между Ветхим Заветом и «Эпосом о Гильгамеше» в похожих с виду историях. В эпосе, например, несколько раз говорится о Всемирном потопе, заметно напоминающем потоп библейский:
В «Эпосе о Гильгамеше» потоп произошел задолго до основной истории. Его пережил только Утнапишти, потому что построил корабль, благодаря которому и спас все живое.
Утнапишти, в отличие от Ноя, в первую очередь погрузил даже не упоминаемое в библейской истории золото и серебро. Так как для эпоса город представляет собой место, защищенное от «зла за стеной», то отношение к богатству как к чему-то главному и позитивному является логичным. Именно в городе сосредоточено богатство во всех его формах. В конечном счете и Гильгамеш отчасти достиг своей славы вследствие убийства Хумбабы – поступка, который принес ему, помимо всего прочего, еще и материальное благополучие в виде древесины вырубленных кедров.