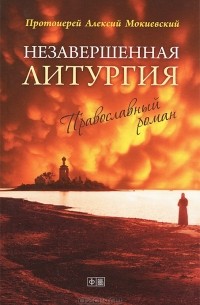Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2. …Отца и Сына…
«УАЗ» лихо подпрыгнул на последних колдобинах лесной дороги и с веселым жужжанием выбрался на асфальт. Вот за эту способность скакать по бездорожью его и прозвали в народе «козлом». И как бы его хозяин ни любил свою новую «ауди», она была совершенно бесполезна в здешних краях, где вместо дорог одни направления.
Уставший от дорожной болтанки, водитель вдавил педаль газа, и по ровной шоссейке автомобиль понесся с амбициями взлетающего истребителя. Осталось немного, минут сорок – и покажется Старое Село. Теперь можно было включить радио и послушать вместо надрывной музыки двигателя с аккомпанементом бьющихся в стекла оводов что-нибудь более мелодичное. После моста обычно появлялась радиоволна. И действительно, как только в окнах сверкнуло зеркало реки Маттерки, розовой гладью отражавшей закатное солнце, так сразу сквозь хрипы радиоприемника пробилась незатейливая музычка. Ехать стало веселей. В полуоткрытое окно врывалась напоенная запахами трав прохлада летнего вечера. Небо радовало желтыми и розовыми мазками перистых облаков. Вдоль дороги стеной тянулся лес – ельник, перемежающийся с осиной и березой. От шоссе его отделяли лишь заросли дикой малины. Но после недели, проведенной на лесосеке, на лес водитель уже не мог смотреть. Гораздо приятнее было видеть эту ровную дорогу, которая вела его прямо к дому. В «бардачке» он нашарил рукой мобильный телефон. Трубка показывала, что «сеть доступна». Он одним нажатием набрал заветный номер, телефон мурлыкнул, и на табло высветилось: «ДОМ».
– Алло! Наташа, я подъезжаю.
На том конце всхлипнули, и голос жены сквозь слезы проговорил:
– Сашенька! Что же ты так долго? У нас тут… пока тебя не было… Ты где?
– Что случилось?
– Саша, ты где?
– Да я через полчаса подскочу. Что ты хнычешь-то? Случилось что?
– Приедешь – расскажу. Давай торопись. – На том конце положили трубку.
– Ну вот, опять не слава богу! – Александр сунул мобильник в карман камуфляжной куртки и прибавил скорость.
Александр выглядел усталым, его худощавое лицо поросло щетиной. Темные волосы прилипли к влажному лбу, на котором залегла глубокая морщина. Что-то напевая, он едва шевелил сухими, потрескавшимися губами. На руле лежала узловатая кисть с узким золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. Запах дорогого одеколона смешивался с бензиновыми парами.
Он ехал с лесной делянки. Там его работники кряжевали лес, заготовленный еще с зимы, грузили на лесовозы и отправляли что куда: березовый фанкряж на Череповецкий фанеро-мебельный комбинат, кругляк хвойных пород в Нижней Мондоме грузился на баржи и отправлялся в Финляндию, часть леса шла на изготовление срубов домов и бань, которые охотно покупали московские дачники. Такова уж была его работа – доглядеть, чтобы все шло своим чередом. Для этого приходилось целыми днями скакать на своем «козле» с делянки на делянку, развозить мужикам ГСМ и запчасти к пилам и тракторам, следить, чтобы не напился кто, разбирать конфликты.
Отучившись в Ленинграде, молодой инженер лесного хозяйства Шурик Фомин приехал сюда уже состоявшимся специалистом. Он неплохо устроился в Питере, но в душе давно лелеял надежду применить свои знания в родном краю. После развала Гледенского леспромхоза в начале девяностых он стал единственным человеком, кто поверил в жизнеспособность обанкротившегося предприятия. Пользуясь общей растерянностью, он выкупил акции, отдав за них все свои сбережения и продав квартиру в центре Питера. Так он начал свой лесной бизнес. А затем были годы непрерывной борьбы за право хозяйствовать. Воевал он с местными властями, вставлявшими палки в колеса, отстреливался от бандитов, уходил из-под пресса налоговых органов. Прошло десять лет, прежде чем он доказал всем свою правоту, встал на ноги и заделался уважаемым бизнесменом-лесопромышленником.
Свою фирму он назвал «Натали», по имени жены. Он очень любил свою жену. Она была утонченной особой, музыкантом по образованию, и к тому же необычайно хороша собой. Она, городская уроженка, не побоялась бросить столичную жизнь и быть с ним рядом, разделив опасности и неустроенность первых лет. Она верила в его удачу. Поддерживала его в моменты, когда руки опускались и ситуация казалась безвыходной.
В трудные времена бывало так, что они жили на ее заработок (она давала частные уроки музыки). Только в тихой семейной бухте он пережидал житейские бури. Их семья была больше похожа на команду единомышленников. Он был ей очень благодарен за надежный тыл. Наташа родила ему двух детей – сына и дочь. Сыну недавно исполнилось четырнадцать, она назвала его Александром, в честь отца, а дочурка ходила в садик, ей не было и пяти, и звалась она Анастасией.
Жили они в особняке под городом Гледенском, в местечке Старое Село. Провинциальный, бывший уездный город, в котором большинство домов были деревянными и отапливались печами, лишь на периферии прирастал пятиэтажками. Большинство домов в нем были дачами и оживали лишь летом. Также и окрестные деревни, которые уже почти вошли в городскую черту, в основном благоустраивались приезжими. Дачные дома москвичей и питерских трудно было перещеголять в убранстве, но дом Фомина выделялся даже на их фоне. Это был знатный терем, рубленный со всем плотницким искусcтвом. Территория вокруг него была выгорожена увитой хмелем оградой с изящными столбиками. Внутри все утопало в цветах. Над черепичной крышей возвышались трубы, увенчанные просечными дымниками с кружевными флюгерами. Такие же пышные, как старинные фонари, металлические навершия водосточных труб поддерживали крышу. Окна были обрамлены резными наличниками, что придавало и без того богатому дому особую роскошь. Но, несмотря на всю свою состоятельность, хозяева не тяготились этой провинциальностью. Это был их выбор: с теми доходами, что приносил их бизнес, они давно могли бы вернуться в Питер и жить там, но эта, такая родная, провинциальная неспешность и близость природы не отпускали их. Они любили этот лесной и озерный край и уже не представляли себе другой жизни. Машина скрипнула тормозами у резных ворот. Из калитки выбежала Наталья, приятная невысокого роста светловолосая женщина с большими заплаканными глазами. Обняв мужа, она взволнованным голосом проговорила:
– Сашенька! У нас сын пропал!!!
– Как пропал?
– Так – пропал, – она всхлипнула. – Три дня дома его нет. Я уже обзвонила друзей, знакомых, милицию, больницу… в общем, все, что можно. Единственно куда не дозвонилась – твоему папе в Родино. Ты не съездишь туда?
– Да перестань ты хныкать, ей-богу. Он не маленький, наверно, мало ли куда пошел гулять. Ты не торопись панику сеять. Ужином-то покормишь?
– Борщ есть, уже грею, – ответила Наталья и продолжила: – При чем тут маленький – не маленький? Мало ли что могло случиться. Он даже не позвонил… Я места себе не нахожу, уже чего только не передумала. Сидим вечерами с Настёной и плачем. Ты, как всегда, «вне зоны действия сети», а Санька поди знай где. Может, и правда случилось что? Да и ты совсем о нас не думаешь, сказал – три дня от силы, а сам на всю неделю задержался!
– Ну, ладно-ладно, уймись. Сейчас умоюсь, перекушу и съезжу в Родино.
Спустя полчаса Александр уже мчался по речной глади на лодке с мотором навстречу заходящему солнцу. Дом его, стоящий на крутом берегу, с реки смотрелся еще лучше, чем с дороги. Широкая лестница спускалась от дома к небольшому причалу, с двух сторон от которого симметрично располагались лодочный гараж и баня. На причале стояли Наталья и Настюха. Они махали ему руками. Он ответил им и прибавил газу.
Путь его лежал в деревню Родино, где жил его отец Аверьян Петрович. Для Александра он был просто батя, а для односельчан – дед Аверя. Человек замкнутый и угрюмый, он мало с кем общался. Занимался охотой и рыбалкой, заготавливал клюкву и грибы, плел корзины из ивовой лозы, растил огород. Возраст его приближался к восьмидесяти, но дряхлым стариком его трудно было назвать; он много трудился физически, редко сидел без дела, а потому двигался легко, не покряхтывая, как большинство его радикулитных сверстников. Много ходил пешком, не зная усталости. Единственное, чего не пощадило время, был его слух, и то он был скорее глуховат, чем откровенно глух. Жену свою Ольгу Ивановну он похоронил двенадцать лет назад, да так ни с кем больше и не сошелся – жил один. Детей у них, кроме Александра, больше не было, да и тот родился поздно, как некое утешение на склоне лет. Поэтому Аверьян Петрович так любил, когда к нему приезжали родственники. Во внуке Сашке души не чаял, хотя и был с ним строг, но не жалел для него ни своего времени, ни сил – учил всему, что умел сам. Дед даже выделил своему любимцу отдельную комнату в своем большом доме. Дом его изначально стоял на самом краю деревни, почти хутор, но после того, как Родино стали активно застраивать приезжие дачники, он со своим домом влился в общий массив.
Изредка старик выбирался в центр деревни, где в древней каменной часовне располагался сельмаг. Там он набирал «стратегических продуктов» – соль, сахар, муку, да еще спички, все остальное он добывал себе сам, даже хлеб пек по субботам, три круглых каравая. Их хватало на всю неделю. Обычные в магазине папиросы и водка не входили в его потребительскую корзину, потому что он не курил и не пил, чем снискал себе славу странного человека. Злые языки поговаривали, будто дед Аверя, уходя в лес, общается с лесовым хозяином, а проще говоря, с лешим, оттого-то даже в самые неурожайные на грибы годы он приносил полные корзины лесных даров, рыба сама шла к нему в сети, а дичь будто ждала, когда он отправится на охоту. Да и в целом вид его был загадочный. Заросший недлинной седой бородой, в неизменной шляпе с широкими полями, опираясь на посох, он ходил, чуть сгорбившись, но походкой бодрой и с достоинством. За спиной обычно громоздился брезентовый рюкзак, куда он складывал свой продуктовый набор. Когда он входил, придерживая скрипучую магазинную дверь на пружине, гомонливые старушки замолкали. Он сухо приветствовал всех и больше не произносил ни слова. Когда подходила его очередь, он молча подавал свой рюкзак продавщице, и та наполняла его обычным для него содержимым и только иногда громко спрашивала:
– Может, еще что желаете?
– Все! Спасибо! – скажет он, бывало, как отрежет. Затем, рассчитавшись, уходит, так же как и пришел, тихо и загадочно.
Он как-то странно действовал на людей. При нем мужики не могли материться, молодяжка не хахала, его пропускали машины, с ним здоровались дачники. К нему обращались, если нужно было надергать мха на сруб или за брусникой, или за новой корзиной. Он все делал добросовестно: ягода у него была отборная, без сориночки, корзина крепкая и аккуратная, мох чистый, но торговаться с ним было бесполезно. Разговаривал он не грубо, но сдержанно и категорично, да к тому же громко, как это бывает у людей, тугих на ухо.
Лодка сбавила обороты и медленно причалила к дощатому плотику. Александр привычно накинул цепь на колышек и сквозь заросли ивняка стал подниматься по крутой тропке к родному дому. Отводок скрипнул, и во дворе отозвался пес Верный, но, чуть завидев желанного гостя, запрыгал на цепи и отчаянно замахал кудряшкой хвоста. Александр потрепал охранника по загривку и спросил:
– Дедко-то дома, а?
У входной двери на крылечке стояла кичига, которой еще его мать полоскала в проруби белье. В свободное от полоскания время эта палочка выполняла сигнальную функцию. Если хозяин уходил из дому, то ее приставляли к двери, что позволяло гостю еще от калитки видеть, что дом пуст, а если она, как сейчас, стояла себе в углу, значит, батя был на месте. Александр открыл двери и, поднявшись по скрипучим ступеням крыльца, вошел в темные сени. Дверь дома, тугая и тяжелая, поддалась не сразу. Он зашел в избу. Дома было подозрительно тихо.
– Батя, ты здесь?
Ему ответствовала тишина. Он прошел в комнату и увидел отца, лежащего на кровати. Странно было видеть этого человека лежащим среди бела дня. Александр обеспокоенно склонился над батей. Тот лежал закрыв глаза, совершенно неподвижно. Глубоко ввалившиеся глаза и заострившийся нос производили впечатление мертвенности.
– Батя! – Сын легко, боясь напугать, коснулся отцовского плеча. – Ты живой?
Веки дрогнули, и глаза деда Авери открылись.
– А, это ты, Саша, – едва проговорил старик хриплым голосом. – Вишь, я тут захворал чуток.
– Напугал ты меня, батя! Что с тобой?
– Да что может быть со старым человеком, помирать пора.
– Ты это серьезно?
– Как не серьезно, износился весь, как тряпок старый, пора на свалку.
– Перестань. Скажи лучше, как ты? Что болит? Чем помочь?
– Да слабость какая-то, ни рукой, ни ногой не пошевелить. Была бы скотина, так через силу бы, но встал, кормить да доить, да на пастбище гнать, а так, коли никто тебя не ждет, вроде и вставать тяжко. Ты не думай, я еще не совсем свалился. Я еще могу за собой поухаживать сам, тебя не обременю.
– Слушай, Санька у тебя?
– А? Санёк был, да. Уехал на лодке кататься. Он меня кормил, пока я тут валяюсь. В аптеку на велосипеде сгонял, лечит меня.
– Молодец пацан. А домой не заехал отметиться, Наташка там на ушах стоит. Думает, куда делся парень?
– Мне сейчас полегше. Я уже встаю тихонько, по дому лазею. Только голова кружится, качает из стороны в сторону.
– Ну, добро. Я сейчас на чердак поднимусь, Наташку успокою, и мы с тобой чаю попьем.
Александр встал с отцовской постели и, выйдя в сени, поднялся на сеновал. Только там под стрехой можно было поймать волну и позвонить по мобильному телефону. Сквозь хрюканье и паузы далекой сети он сумел вызвонить дом и поговорить с женой.
– …Так что, Наталка, я пока Саньку сменю, побуду с батей денек-другой, а коли будет совсем плохо, придется его к нам везти… Сашка на реке, я его пока не видел, рыбачит, наверное. Сегодня не погоню, уже поздно, а завтра с утра на велосипеде прискачет… Он у нас молодец, деда выхаживал…
Связь оборвалась, но главное было уже сказано. Он опустился в сено и, раскинув руки, закрыл глаза. В этом доме он не мог себя чувствовать иначе как маленьким мальчиком. Здесь прошло все его детство. Здесь он знал все уголочки, все сучочки на смолистых досках. Он мог с закрытыми глазами пройти по всему дому. В его жизни столько произошло всего, столь многое изменилось, лишь в родительском доме все было точно так, как в раннем детстве. Для него это было некоей константой, это был пуп земли, такая точка, вокруг которой все на свете вращается, а она лишь поворачивается на месте. И слово «Родина» для него настолько прочно связывалось в сознании с таким созвучным Родино, что если бы он был деревом, то его корни непременно бы впитывали соки земли лишь в этом, таком родном сердцу месте.
На крыльце, куда он вышел покурить, они сидели вдвоем с Верным. На улице уже темнело, но полной темноты не наступало. В эту пору солнце уходит за горизонт недалеко; едва успеет стемнеть, как тут же медленно наступает рассвет. Этот феномен белых ночей, так удивляющий приезжих, был здесь привычной обыденностью. Пользуясь светлой полночью, молодежь гуляла, на деревне не стихала музыка. В воздухе звенели комары, пахло травами. По реке проплывали горящие разноцветными огонечками баржи и теплоходы, после их прохода на берег обрушивалась могучая волна, которая качала лодки и захлестывала причал. Пес щелкал пастью и мотал головой, отгоняя докучавших комаров, среди кустов чивкали птицы. Аккуратно затушив окурок, Александр зашел в дом. Отец его сидел на кровати и попивал из кружки воду.
– Самовар-от ставь, чаю попьем. Сашку выглядывал? Он может поздно прийти, можно его не ждать.
– Самовар уже кипит. Тебе принести или на кухню подтянешься?
– Когда ты успел самовар-то поставить? Принеси, коды не трудно. Чашку там мою увидишь…
«Отец сильно постарел», – вдруг отметил Александр. То ли не приглядывался раньше, но сейчас его лицо, казалось, совсем осунулось, его почти не было видно из бороды. Только глаза, как угольки, горели с прежней силой и проницательностью. Чаевничал он недолго: сделав пару глотков дымящегося крепко заваренного чая вприкуску с кусковым сахаром, снова лег.
– Я, Саша, покемарю. И ты ложись, Санькина комната открыта. А он придет, на бабушкину койку ляжет. Я таблеток напился, тепереча хорошо спать буду. – С этими словами дед отвернулся к стенке, на которой красовался старый гобелен с оленем, и тихонько засопел.
Уставший от дорог и волнений, Александр лег на постель в Сашкиной келье, но сон не шел, и он бездумно осматривал развешанные по стенам рисунки, чуть видные в сумеречном свете белой ночи. То, что его сын рисует, он знал, но загруженность на работе и редкие побывки дома не позволяли ему отслеживать развитие Санькиного художественного дарования. Только вот эта вынужденная жизненная пауза позволила приглядеться к его рисункам повнимательнее. Это были неплохие акварели, замечательная графика, выполненная тушью, карандашные наброски. Импровизированный вернисаж увлек его настолько, что он поднялся с кровати и включил свет. Лампочка без абажура ярко зажгла краски. С картинок открывался удивительный, фантастический мир детской души. Сюжетов было несколько, но преобладающими были два, каждый раз по-новому повторяющиеся в разных произведениях: утопающая в водах церковь и лицо миловидной девушки. В плывущей по водам церкви Александр без труда узнал храм Покрова, что стоит на острове посреди Волго-Балта в пяти километрах отсюда, а девичий лик был ему незнаком; это была не девушка вообще, а какая-то знакомая художнику девица, потому как она на всех рисунках была одна и та же, словно она ему позировала. «Да он влюбился!» – подумал Александр, вглядываясь в лицо незнакомки. Оно напоминало ему врубелевскую Царевну-Лебедь с глубокими, бездонными глазами, наполненными непередаваемой грустью.
Тут же вокруг виднелись следы творческой деятельности – пестрые листки с пробными мазками – и инструменты: краски, карандаши, баночки с тушью, кисти разных номеров. Было в этом беспорядке невидимое присутствие самого художника. Вспомнилось о Сашкиной отлучке. Александр бросил взгляд на часы. Ходики с кукушкой показывали половину третьего. Глаза слипались, но чувство беспокойства невольно шевельнулось в душе: «Где его, правда, носит?»
Отец в соседней комнате негромко храпел, закинув за голову руку. На краю постели, чуть прикрыв глаза, нес ночную вахту толстый серый кот. За окнами уже брезжил рассвет. На улице стало тихо. «Может, он домой подался?» Александр присел за Сашкин стол и увидел толстую тетрадь в синих корочках, на которой со всей тщательностью было выведено: «Краеведение». Он взял тетрадку и пролистал. Она, оказалось, была испещрена записями. Размашистым почерком Сашка выводил абзац за абзацем, разными ручками и с разной старательностью. Из прочитанного следовало, что на занятиях школьного краеведческого кружка «Истоки» он выбрал тему для исследования «Покровская церковь. История храма на острове». Листки в клеточку стали исторической летописью храма, а сам летописец оказался столь же одарен умением описывать события словесно, как он это делал и живописно. Время текло медленно, сон куда-то улетучился, и, пристроившись у настольной лампы, Александр с пухлой тетрадкой расположился на кровати.
«Место это было обжито древним человеком в глубокой древности. Археологи, проводившие здесь исследования еще в 20-х годах, предположили, что первые стоянки в районе Покровского погоста появились 9000–9300 лет назад – в период стабилизации климатических условий, последовавший за отступлением ледника и обмелением послеледниковых водоемов. Мезолитические находки обнаружены в раскопах и собраны с размываемых участков правого берега реки Шексны на протяжении более 200 метров.
Это была культура охотников, рыболовов и собирателей. В культурном слое обнаружены сотни костей, преимущественно бобра, а также лося, лисицы, собаки и множество полуистлевших рыбьих костей. Найдены следы кострищ и хозяйственные ямы с охотничьим и бытовым инвентарем – каменными ножами, скребками, проколками, сверлами, наконечниками стрел, изделиями из кости и рога – рыболовными крючками, гарпунами, зубчатыми остриями.
На дореволюционных картах это место называлось Бабьим островом. Это позволяет предположить, что на этом месте существовало древнее святилище и стоял идол – Каменная Баба, сложенная из валунов подобно тому, как сейчас дети лепят снежную бабу. Это было следствием распространенного в эпоху каменного века одного из самых древних религиозных культов – культа Богини-Матери. Баба эта – идол всеобщей прародительницы. Древние верили, что из ее лона вышли растения, животные и люди. Поэтому в мышлении первобытного человека жило чувство родства, которое связывает все живые существа. Для охотников каменного века лоси и медведи, орлы и бобры – это такие же дети природы, как и они сами».
На страницах тетради было множество рисунков древних людей, срисованных и нафантазированных. Они заметно скрашивали скучный академический текст, и история как бы оживала. Иначе невозможно было представить, что здесь, в столь привычных местах, еще в седьмом тысячелетии до нашей эры жили люди.
«В языческой религии древних славян-земледельцев также существовал культ женского божества, Матери-Земли, Мокоши – богини земли, урожая, женской судьбы, Великой Матери всего живого. Мокошь, как богиня плодородия, тесно связана в мировоззрении славянина-язычника с Семарглом (крылатым псом, охранителем посевов, богом корней, семян, ростков) и грифонами, с русалками, орошающими поля, с водой вообще. Ей поклонялись у водных источников (рек, озер, родников). Постепенно Мокошь стала почитаться как подательница дождя. В конце концов в славянском пантеоне она «поднялась» с земли на небо и заняла место главного женского божества. Это отражено в повсеместно распространенном у славян представлении о трех матерях каждого живого существа – родной матери, Матери-Земли и Богоматери».
Разглядывая картинки, Александр пролистал несколько страниц, пока не увидел уже знакомый по картинкам на стене образ храма. Мимо этой церкви он не раз проплывал, будучи на рыбалке. Ее трудно было различить среди зарослей кустов и деревьев: бо́льшая часть ее была разрушена, но черный купол с крестом еще возвышался над зелеными кронами. Близко подплывать к ней ему не доводилось, да и было это небезопасно. Этот остров считался рекордсменом по числу несчастных случаев: не проходило навигации, чтобы кто-нибудь в поисках приключений не пытался пробраться к руинам и калечился или тонул, а то и вовсе пропадал. Любителями экстрима были, как правило, приезжие дачники. Трагические истории, связанные с церковью на острове, передавались из уст в уста с детства, и еще бабушка рассказывала ему эти страшилки. Все местные знали про этот зловещий остров, оттого и существовало негласное табу на подобные десанты.