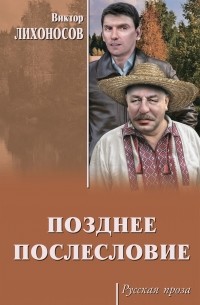Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Прощание с брянскими
Светлой памяти В. М. Шукшина
В один из бесконечных дней, когда у каждого из нас на свой лад складывались труды и заботы, по средней России шел в южном направлении пассажирский поезд. Кто-то в эти часы появился на свет, кто-то заболел, кого-то повысили по службе, иному выпало счастье любить; в деревнях была тишина, по городам русским бежали трамваи, машины – словом, продолжалась великая земная жизнь. В купе поезда сидела старая женщина и рассказывала добрым попутчикам о своем горе.
– Другой год плачу и не верну.
– Плакать нельзя, – робко успокаивали ее. – Эй, не плачь.
– Как же нельзя…
– Страшные сны будешь видеть. У одной так же случилось, и она плачет и плачет. Когда видит сон: иду, говорит, на могилку, встречается кум. «Вон, кумушка, твой сын на могиле сидит. Гляди ж, загородись, а то он утекет, не увидишь ты его». А я, говорит, платок сняла с головы, загородилась и иду. Он, сыночек, сидит на могилке, книжку читает. Она ближе. «Не подходи, – говорит, – я мокрый, я вылез сушиться на солнышке. Все дети сухие, а я все в воде да в воде. Ты плачешь и плачешь, – я мокрый». Не плачь, ему там плохо.
– Ой, не могу. Он ни разу мне не снился. Год подошел – увидела. Поехал мой Терех на Брянщину, а я одна. Призвала внучку ночевать. И снится мне сон. Вот так выношу обед, они сидят с братом моим Минаем, покойником. Несу в двух кувшинчиках и знаю, что вышла я и на правый бок повернула, они и сидят с Минаем. Я тый кувшин открываю, а там борщ. «Ну, Миша, обедай». – «Мам, – говорит, – мои портянки корявы». – «Ой, сынок, у меня есть!» Ищу, ищу холст старинный в сундучке, глядь – появилось местечко, деру ему портянки от темно-синего полотна. «Мам, это не надо. У меня есть требушки. Готовь обед, сейчас мои товаришши придут». Я сейчас становлю на стол вина кувшинчик. Как залазят – одни солдаты!
– А-а…
– «Баб, у тебя орешки есть?» Я молчу. Я оставила, как сноха-молодица приедет. «Ой, милые, Терех мой пастевал скот, а я усе лето болела, нету». Не дала. И вот они не пили и не ели. А я орешки и на поминки берегу, год же подходит. И надо б нам в четверг ставить, в обыденный день, а я, возьми, на воскресенье, люди ж все дома. Ладно. Во вторник снится сон. После обеда, три стола накрывали. Идет он с гульни. Стук, стук в окно: «Мам! Есть стаканчик выпить?» – «Есть, сынок. Десять литров брыкалки осталось». Накроила хлеба черного, ищу водку и… проснулась. И думаю: «Ой, Боже, надо идти на могилки. Это он опять попросил». Я делаю блинов, развожу сметану, варю мясо. А я привезла с могилы его, с Целинограда, землю и куда же мне всыпать? Всыплю я земельку на Иванову могилку, в колхозе его кони разбили. И хожу туда поминать Мишу. Зову старушек, и поминуем. Отрезала метру полотна – отдам старику на жертва, одинокий, на ему метр на портянки. А теперь опять не снится. Они ждут этого дня. Говорят, поминать не надо. Они ждут.
– Это к лучшему, что не снится. Надо, чтоб забывался, иначе с ума сойти можно.
– Да тоже правда. Умер у одной хозяин в нашей деревне, у нас на Брянщине, откуда я сейчас села. И она бедовать да горевать. Как стал он ходить к ней! Ой, боже. В чем положили, в том и идет. «Двинься!» – цап-цап по койке. И спать ложится рядышком, только, говорит, ня берися тут во, за мою спину, ня берись, дуже больно мне. Она испужалась. Что ж делать? «Возьми, – посоветовали, – как будет иттить, расчешися. Разживись конопли и хряпай, ешь. Он скажет: „Что это у тебя?“ – „Да расчесываюсь“». Он как ушел и больше не пришел. То б ходил до самой ее смерти. Это правда, было в нашей деревне. Давно.
Ездила она на Брянщину проведать внуков, обошла всю родню и возвращалась усталая. В Джанкое была пересадка, четырнадцать часов приходилось дожидать поезда на Керчь и через пролив. Она выбрала женщину лицом подобрее и подсела к ней с чемоданом, в который наложили ей сват и сватья домашних подарков. До того, пока скучала на скамейке одна, сердце вызывало ее на разговор с родными.
«Детка, – видела себя она снова перед снохой, – тебе ешо тридцать годков. Чего ж ты одна будешь?»
«Мамочка, – теми же словами, что и на дороге в поле, отвечала сноха, – не найду я теперь такого».
«Что ж, милая, такого искать… Это далеко искать, из далекой глыбины… Может, попадется хороший…»
«Их теперь, хороших, нету. Приму да буду плакать только с ним, стенки лизать…»
«Ну, ня обижайся, невестушка, – просила она, обнимая, – ня обижайся, что письма вовремя не пришлю. Пойду к Лукерье – она не может письма сообразить: как начнет писать, слезами обсыпает листок. Если б я жила ближе, я б к вам ходила, детки, делилась бы одним словечком с тобою. Ой, горе, ой, горе! – мотала она головой, – ой, сыночек ты мой родной, – закричала на все поле, – да ручечки твои были рабочие, да ручечки были магнитом наполнены, солнышко мое пригреваное, на что ни взглянешь – все сделаешь!»
«Мамочка, ну что теперь, что ж нам…»
«Ой, не могу! – клонилась она к снохе. – Как зажмурюсь, усе стоит в уме. Согласна бы к нему живая лечь. Прощайте, детки, прощай, сваток, и ты, свашка, как картохи порыем, сваток, к Октябрьскому приедем… Внуков берегите».
– Э-э, – вздыхала она в Джанкое, вспоминая расставание, – не будет уже того, как при Мише. Какая сноха, об усех думала. Мягкая, спокойная, неленивая, ой-ей. Душу на нас покладала. Пара были. Деревенская: усе может. А не стало Миши, помаленьку отойдет родство… По старинушке так…
И перед самым домом, под станицей, на повороте к хутору, пристроилась она возле женщины, торговавшей семечками, и говорила:
– Никого так, как дитя, не жалко. Брата, матку, сестру – жалко, усех жалко, но жалчей дитя – нету. У меня умерла девочка, шестая. Так я плакала, пойду воды и плачу украдкой. Стыдно ж слезы показывать – детей много. Но тая маленькая, а по этому не забываю. И труд его не забываю, пробил дорогу себе, директором школы назначили, хотел как лучше. Ой, боже. Убила учеба, убила учеба. Ему тесть говорил: «Миша, хватит учиться». А он с ей дальше и дальше лезут. Он старается, а она за ним. И вот выучился заочно, усе посдал, в партию перешел, и на тебе: сложил руки. В сырую земельку пошел за младостью. Мама, говорил, теперь больше буду вам помогать. К старому директору ходил на кладбище, венок носил. Видишь, как смерть его таскала.
– Мы вон неграмотные – плохо, а поглядишь, как оно делается, так не дай бог и грамоты. Полжизни на нее.
– А тут дети народились, им же тоже надо есть, пить. Они и мотались. Если он ня гордый, только сердце свое беспокоит. До всего ему дело, усех помнит, за всех беспокоится. И усе кажется, что мало стремился к обществу. Как его оставляли служить сверхсрочно! Нет. «Надоела, мама, шинель за три года. Лучше буду учителем». Усе с деревни в учителя идут, а городецкого не заставишь. Прожил, не скандалил ни с кем, не пьянючил, ой-ой, какая тишина с его была. Его поставили сельсоветом, на что ему было учительство? Там у нас ходит сельсовет, здоровый, идет, так у него грудь, как у бабы – во!.. Умер Миша, три деревни на Брянщине горевали: надо ж, какой хлопец был. Ни разу «черт» не сказал за век свой. Дуже ученики любили его. И хитрости, как и у бати, не было. Где ж оно пряталось, мое горе, тридцать два года? Хоть бы я спросила: ну как тебе тама? Плачу, не унимаюсь.
– Не плачь.
– Жалко. Если, говорят, день тот написан Господом, не минешь, нигде не скроешься. Часа не проживешь лишнего. В месяце есть один несчастный день. Племянница наша залилась; как кинула холст в речку, оно – раз, и сама бах-бах и затопилась. И говорили матке: не плачь, в несчастную планиду родилась. Кому как наречено. Сижу с тобой, добрая женщина, как соловей пою, а уж тучки над нами, машин нету, дед мой там тоскует. Пойду пешком, оставайся с богом, до свидания…
Ничего этого я не знал, когда ехал к ним на другой день, сидел в ожидании попутки на том же повороте возле женщины с семечками. Я пропал на целых пять лет. И могло случиться, что я никогда бы сюда не явился, если бы меня не спасли. Оживши, я с новым чувством разъезжал по земле и теперь от усадеб и великих гробниц возвращался к ним, брянским моим старикам. Была весна. Помнится, я нетерпеливо подгонял нашу встречу. «Живы ли, здоровы они?» – кого-то спрашивал я на пустой дороге в долине, и тем чаще, чем ближе подходил к хутору.
На горке, увидев хатку с окошком к аллее, еще суевернее воспринял я полуденную тишину. Нету их, что ли? Да правда ли живы? Дверца со щелями была на замке. Редел вокруг лес, большая поляна была вскопана. Я спустился вниз. «Да они купили хату на краю!» – сказали мне ребятишки. Я пошел в самый конец улицы. На стук мой никто не отзывался. Наконец от речки показался сгорбленный Терентий Кузьмич. Едва он угадал меня, глаза его заблестели, и он приостановился.
– Иванович? Мы уже и не надеялись. Али погневался на нас?
Тут же отворилась дверь, и Мария Матвеевна молча сцепила руки у подбородка.
– Ой, боже, – тихо сказала она, – сынок милой! Ждали-ждали, ждали-ждали: когда приедет Иванович? Нету Ивановича.
Я наклонился к ней, чтобы она, маленькая, хрупкая, обняла меня своими тонкими руками…
Вечером Мария Матвеевна доила корову, а мы с Терентием Кузьмичом курили в сенках. Склонившись к коленям, он смотрел через открытую дверь в огород. Он по-прежнему не очень словоохотлив, но мне спокойно возле него после моего города, где я живу почти в одиночестве.
– Сколько же ты у нас не был? – спросил Терентий Кузьмич.
– Пять лет.
– Пять, да. Мы в этой хате уже третий год.
– А там хорошо, на горке-то, было. Все видать.
– Хорошо, Иванович, да ноги таскать тяжело. Круто. Скатились с горки на низ, и слава богу. Если б ноги мои бегали, мне коров пастевать, что в карты гулять. Правда, Иванович.
– Всего хватает?
– Без крошки не садимся. По два кабана валим: одного к Октябрьской, одного к весне.
Помолчим, помолчим, опять перекинемся простым словом.
– О чем задумались, Терентий Кузьмич?
– А ни о чем, Иванович. Ни о чем, – как всегда, бесхитростно отвечает он.
Я при этом думаю: «Вот эхо старинного русского крестьянства. Смиренность, простодушие и довольство самым малым. Как любил таких крестьян Толстой!»
На нем клетчатая рубашка покойного сына. Руки у него большие, пальцы еще толстые, крепкие ногти светятся молочной белизной. А тело износилось, усохло.
Мы порою не замечаем, как повторяется наша жизнь, забываются и снова возникают те же разговоры; мы ходим по одному кругу, вертимся среди одних и тех же людей, то родственных нам по духу, по судьбе, то стесненных с нами одними и теми же обстоятельствами. И не верю я, будто очень уж меняется на своем веку человек. Нет, он просто стареет. Очутившись перед брянскими через пять лет, я сразу же понял, что мы те же, те самые, что прощались тогда на горке, чуть постарше только и еще больше наполнены опытом всяких переживаний.
– Вы в молодости буйный были?
– А не! – как от укуса, отмахнулся Терентий Кузьмич. – Прожил, Иванович, и хоть бы перстом кого тронул. Спроси у бабки.
– Чего? – вошла с ведром Мария Матвеевна. – Молока не видать, по катушинной нитке идет. Пока одною рукою поциркаю, уже не хочу ничего. Ой, спина позябла. Я тебе, Иванович, не дозволяла за водкой идти, – увидела она на столе бутылку, – а ты купил. Я запрещаю им пить. Такое горе. А дед, как то – песни поет. «Звенел звонок насчет поверки…» Я его один раз в лысину ложкой как ударила: «Неужели не утерпишь? Варнакает!» Он раскричался: «А-а, раз меня ударила, опозорила при людях – теперь больше жить не буду!» – «Че-го-о ты кричишь? Я рассказываю и плачу, какое горе, а он выпил да поет». Чуть было не подрались с ним. Пиджачок бы напрянул, охолодало.
– Напрянь, Иванович, напрянь, – послушно за бабкой сказал Терентий Кузьмин, встал и принес мне пиджак сына.
– Ох, день прошел, до бога дошел. Как тебе рады, Иванович, как Мише своему. Никого так не ждали.
Терентий Кузьмич на слезы слабее бабки, он приподнимается и закрывает двери. Я молчу. Мария Матвеевна доцеживает остатки, наливает мне из кувшина в кружку и подает.
– Попей. У вас в городе такого нет.
– Эх, подносила мне матушка когда-то к постели парное!
– Жива мамка? А моей нема на свете. Давно я у матушки не была, а уж моя дороженька травою поросла. Пей, пей.
– Подлей Ивановичу. Пей, не стесняйся. А то прогоню. Да, да. И хозяйке твоей пожалуюсь. Борисовне. Выпей, а потом поужинаешь.
– Суп наш в сваты пошел. Прокис. Сейчас картох поджарим. Или толченку? Ты на сале любишь, на масле?
– Все равно, – говорю я.
– Вари, вари, Маш!
– Лучше на масле.
– На масле Ивановичу, – поддержал Терентий Кузьмич. – Яечек свари.
– Наш Терех сало любит, да жареное. Когда пастевал, огонь у лесе разложит да шашлычка поджарит. Я капельку посолю, тебе ж нельзя крепко солоно. Толченочку сделаем.
– Тесть, тешша, Иванович, живы-здоровы?
– Да, на пенсии уже.
– Слава Богу, Иванович, слава Богу.
– И у нас Мишины сваты хорошие. Сваты… Э-э! Уж нема таких. Охо-хо, был Савва, была и слава. Усе забудется без Миши. Собралися мы там и голосили по нему. Побыла я, внукам гостинцу отнесла. Девка за мной вслед бегла: «Бабушка, я с тобой!» А ветер холодный. Провожали далеко. Хороша была молодица у Миши. «Мамочка, береги себя ты, – наказывала. – Горе у нас вечное». Куды ей теперь?.. Пробуй, Иванович, я бросила соли.
– Пробуй, пробуй, – заставляет и Терентий Кузьмич, глаза его полны слез.
К вечеру всегда навещают стариков дети. На этот раз зашла Фроня. Она-то первой и заехала на Кубань.
– Здравствуйте, Иванович. С приездом.
– Спасибо.
– На, мам, – протянула она булку свежего хлеба и баночку сметаны. – У, начадили.
– И-и, дед, – обернулась Мария Матвеевна. – Скрутил! Не утерпишь. И ночью, сколько раз на двор встанет, столько закурит. На что оно?
– Скучал без бабки, – засмеялась Фроня.
– Скучал. Дуже скучно одному.
– Ездил ворожить в станицу, – поддела Фроня, – жива бабка, не? Рубль отдал.
– Что ж ему сказали? – спросил я.
– Ничего, Иванович, «Живая. Не горюй. Скоро будет в дороге».
– Я б тебе погадала – во! Как была перемена деньгам, собрала я сот пять, поехала в Брянск. А там деньги гуляют! Вовсю. И цыган вокруг что туча, бабы их обступили. Я и говорю: «Кому погадать без рубля?» Беру руку: «Ну, что ж, язычком дерзка, а душою проста, а хитрости нема. Но за хитрую почитают». Тут бабы как обступили меня! Я: «Не, я одной только».
– А наш дед простак, – сказала Фроня. – Его обдурить… Дров ему привезли за двадцать копеек. Это ж надо поверить!
– Деда нашего без штанов можно оставить. Проходимца не разглядел.
– А почем я знал? – осердился Терентий Кузьмич. – Заходит человек, дровы называется привезти. Две поллитры за машину. Только трактор сломался, подшипников нету, товаришш уехал в станицу за подшипниками. А вечером как штык будет машина дров. Я ему сметаны тарелку налил, блинов Фронькиных, садись, садись. Сказываю про сына, бабка на Брянщине внуков отведывает. «У меня тоже детенок помер. Тяжело. Если есть стаканчик, то дай». На. Выпил. «Да дай и другой. За твоего сына. Не тужи». На и другой. «Каких дров привезти?» – «Нам на огород столбики». – «Есть. Машина добрая будет». – «А с откуда ты?» – «Приезжий. С Карамалты. Знаешь, дед, налей в бутылочку, с собой, пока машину ждать. И позычь мне копеек двадцать». Дал ему. На третий день его поймали на краю, так же семенную пшеницу продавал.
– Купил клец-солянец за сто рублей. Ты, Иванович, знаешь эту притчу? Идет солдат, двадцать пять годов отслужил. Стучится к старушке, просит пообедать. «Покушай, солдатик, только без соли». – «У меня есть клец-солянец. Как помешаю, будет солоно». – «Сколько ж стоит?» – «Да сто рублей». – «Ой, солдат, дай мне ту палочку, тогда и соли не буду куплять. Усе буду палочкой мешать, как сварю». Она отвернулась, он с платочка посолил да палочкой помешал. Она покушала – надо купить. «На тебе сто рублей». Солдат и ушился. Мешала, мешала, а оно как было несолено, так и есть. Вот и дед наш такой же недогадливый. Э-э! – строго сказала она. – Не соображает твоя голова!
– Не соображает, не сообража-ает! – еще пуще обиделся Терентий Кузьмич. – Иванович! Нас усей век дурят. Усей век. Ты ему веришь, а он тебя ловит.
– Не надо верить, – поучала Фроня.
– Да разве его поймешь сразу? Входит человек – первым делом приветь его.
– А что ж, не видно, проходимец или кто?
– А и не видно.
– Иванович, готова твоя картошка.
Фроня не согласилась поужинать с нами, стояла в дверях и лущила семечки. Я налил Терентию Кузьмичу водки, он с тихим удовольствием выпил, а Мария Матвеевна сказала:
– Мне на оборочку.
– На какую?
– А что лапти заматывали! Так у нас говорили. И насбираются по оборочке и пьяны. Ты не слыхал?
Я ей налил полную рюмочку, она чуток отплеснула на пол.
– Перебирались мы на Кубань, цыгане в вагон поселились, прибранные, усе блестит на них, и они, как рюмки нальют, каждый со своего стакана чуть-чуть на землю. Родителям…
– Маш, – скомандовал дед, – принеси Ивановичу сала! Кушай, кушай вволю. А то Борисовне пожалуюсь. Яечко разбей. Я буду обижаться. Да, да, дорогой товаришш.
Ем я обычно мало, поковыряю немножко и сижу.
– Давай молочка волью. Ох едок. Как Миша наш. Сейчас без крошки не садятся. А мы, как жили на Брянщине, года два, когда колхозы сорганизовывались, было хорошо. Глядь, голод. Приходилось – одну крапиву толкли, да варом отварю, посолю, да преснячков напеку, детенки мои картох хотят, а их нету. На самую Троицу разбивали навоз. Такая скверна поднялась. А Фронька – ей двенадцать годов! – била, била, да и пристала: «Мам, не могу, обмираю, есть хочу». Ой, горе. Сыну годок, он мне грудь разоряет. Ну что же мне делать? Нарву крапиву на борщ, братья мне картох насыпали, завариваю супочку и им по кружке даю картошного… Гриша пастевал скот. Ой, горя приняли. А сейчас мы окрепли, да дети подсекли. Ешь, Иванович, вволю.
Я наливаю старику еще рюмочку, себе тоже.
– Спасибо, Иванович.
– О, рад, что Иванович угощает, – укорила Фроня.
– Дождался наш дед…
– Помаленьку. Жизнь прожил, Иванович, не запивал, не-е, избави бог. И не знал, где она. Скот пастевал, детей колыхал с бабкой. Дети как по шнуру ходили. Выкохал и не шипанул, а боялись. Не бил и не ругал, а дети хорошие.
– Семь детей выкохали, – вздохнула Мария Матвеевна, – не боялись, что умрут, а что рубахи на смерть нет. Пятерых в поле родила. С ней вон рожь жали, – кивнула она в сторону Фрони, – вручную. Конопли пойдем брать, Фронька роет свою долю и мою. Тут я и девку нашла. В полу ее и домой. Тая девка пожила у меня тридцать семь недель и умерла. Три дня миновало, опять пошла в поле. Так я в одну руку по пятьсот соток держала конопель. Семья большая, кормить надо. «Терещиху премировать, она боле усех сжала». Прошло три года, занялась ешо. Лен стелили – и Мишу нашла. А Нюрочку – это дело в сентябре, когда конопли берут. Такая я крепкая была. Несу три ведра картох, мужик встречает: «Оборвешься!» – «А я крепкая!» Ивана – нарезала колос коням, по двадцать корзин нарезала. И родила. Не отдыхавши. Григорий у Покров, по дровы ездили. Как шарик выкатился. И одного дня не отдыхала. Теперь два месяца сидит до родов, после родов. Э, счастливая была на детей. И наработалась Матвеевна вволю. До основания работала. Тебе сала внести?
– Внеси, внеси Ивановичу!
– Дед наш уже красный, – сказала Фроня.
– А чего я красный? – поднял он голову.
– Гляди, песни не пой, – погрозила ему Мария Матвеевна. – Миша последний раз приезжал, сели на горке:
– «Какую, мам, спеть?» – «Да ту, сынок, что называют меня некрасивою, почему-то он ходит за мной…» Я подгоняю: «Выше, выше тяни!» – «А я стыдюся петь!» – «Кого ж ты стыдишься петь?» – «Мамки да папки». Ох, сынок мой, соколок… Пропал скоморох, пропала игра. Как обед собирали, стол выносили за ворота, а девки мои шли и плакали вслед за столом. Так у нас положено. А тут не. Спасибо, Иванович, тебе, – встала она из-за стола, – наелась, наговорилась. Спасибо. Чтоб у нас не сводилось и у вас велось. Так-то.
– Вам спасибо.
– Спасибо, Иванович, – сказал и Терентий Кузьмич. – Спасибо, сынок, что отведал нас, но обоих, обоих ждали!
– Спасибо, Иванович, – слегка поклонилась Мария Матвеевна, – рады, как Мише. Долго у нас побудешь? Живи до родительского дня. А там 9 Мая. Всех поминать будут. Вольная иль невольная смерть, а где кто пропал, кто у лесе заблудился, кто на мину наскочил, – всех поминают. Брат Минай пошел у лес по дровы и помер. Эх, меня не было, я б поголосила по нему, я б словечко для него нашла…
– Ложись, Иванович, отдохни.
– Рано. Погуляю внизу.
У речки я на минуту вспоминаю город, свою квартиру на третьем этаже, соседей. Теперь городская жизнь далеко за горою, на которую я смотрю сквозь редеющие ветки. Луны почему-то нет. Кусты мне мешают заглянуть в глубокую узкую речку. Со дня на день она зальет поляну, на краю хутора недоступно будут стоять в воде дубы, а к празднику Победы уже закроется белая хатка на горке густой кубанской зеленью. Я временно наслаждаюсь почти патриархальной тишиной. Есть у меня уголок, где я могу успокоиться.
В мое отсутствие появился зять Петр Михайлович. С утра он копал огород и сам решил, что за работу ему полагалась небольшая милостыня от жены – не ругаться, если он перепьет. Он был мне по грудь, глаза ласково просили защиты, и он кинулся ко мне, хватая мою руку.
– С приездом, Иванович! Как здоровьичко? В семье благополучно? – И старики, и Фроня осуждающе улыбались. – Мы соскучились, папа, мама вспоминали вас.
– Э, нашел товарища! – сказал Терентий Кузьмич. – Ты ему нужен!
– Скучал, – прикрикнула Фроня, – а письмо просили написать, дак некогда.
– Ты не шуми, не шуми, не мешай нам найти общий язык.
– Хо! – засмеялся Терентий Кузьмич и встал даже.
– Что писать? Папа, мама пока здоровы. Плачем, плачем по Мише.
– Ты там плачешь!
– Фронь, не шуми, я еще плохого слова не сказал. Папа, мама, чего она на меня? Я дрова поколол? Дай мне про международное положение узнать.
– Куды-ы? Чего ты можешь понимать? Иди ложись-ка, а то палкой отваляю.
– Михайлович! – подошел к нему Терентий Кузьмич.
– Ага, пап, ага.
– Сядь-ка.
– С тобой, пап, с удовольствием посижу.
– Ты мне скажи, мужик…
– Ага, пап.
– Докуда это будет продолжаться?
– Что, пап, что? – чуть ли не прыгал на стуле Петр Михайлович. Мария Матвеевна перемигнулась с Фроней. – Ты говори, как интеллигент с интеллигентом.
– О-ой! – повалилась назад Фроня. – Кто бы рот разевал!
– Тебя дочка приняла как родного, а ты?
– Пап, зачем этот разговор при чужих?
– Боишься! – сказала Фроня.
– Здесь чужих нет, – повернулась Мария Матвеевна.
– Да ну, пап, мам, зачем этот разговор? Зачем сейчас? Мораль читать – зачем это?
– А ты не зарабатывай мораль, – Фроня набрала в руку семечек и отошла к порогу.
– Я чего плохого сделал?
– И хорошего мало, – посмотрела на него Мария Матвеевна, – Фронька на ферме, а ты привел чужого, напоил, пятьдесят рублей спрятал с получки – мало тебе. От кого ты прятал? От тестя, от тешши? Нам не надо. Эх, Михайлович! Усе прошшаю, а это… Мы к тебе как к человеку, а ты дерьмом.
– Мамочка, я могу взорваться.
– Иди рвись. У нее нога болит, она и огород копает, и на ферме, а мужик в канаву валится. Это дело? Я тебе выговор дам. За что тебе рыло побили? Так бы сковородку на голову и надела. Мы молчим, а ты не понимаешь.
– Мама, я плохого слова не сказал.
– Тебя Фронька в чем приняла? Наволочка что ночь, одеяло – выкинуть его, кошкам спать. Костюма напрянуть не было. Пристрял – живи. Кто ее жалеть будет?
– Мамочка, ты зря напала. Иванович слушает, подумает – правда. Я пришел по-хорошему.
– Вот и хорошо, что слушает, – сказал Терентий Кузьмич.
– Налейте мне, поговорим благородно. Они, Иванович, меня всегда ругают.
– Никогда совести не соберет человек: «налей ешо».
– Я ухожу, – поднялся Петр Михайлович и застыл: – Вы не знаете моей благородной жизни.
– Я знаю твою историю, – спокойно говорила Мария Матвеевна. – Ты за тринадцать годов мамке своей и десятки не послал. Разве это сын? За тринадцать годов ни разу не съездил. Мамка померла, так он летел в самолете и выпивал с горя. Нет, я как летела Мишу хоронить, ничего в роте не было. Приехал, а мамку отнесли. Вернулся и не сказал, что не захватил мамку. Это сын?
– Собака, – сказала Фроня. Вот ее судьба – проклинала мужика своего, но потом смирялась и жалела его.
– Правду николе не скажет. За рюмку что хошь подпишет, что хошь соврет. Это с такими людьми как жить можно? Ладно, перед Богом за ложь давно не краснеют, перед чужими тоже научились глазы закрывать, а своим? Мы так не можем. Я где сяду с кем – хоть на дороге, хоть в поезде – усю правду про себя скажу. Потому жизнь моя была такая – скрывать нечего. А он про мамку соврал, опоздал хоронить.
– Мне одеться не во что, в чем я стал бы перед сестрами?
– Глазы твои бессовестные, эх, – вспыхнула Фроня.
– Я привык бостон носить.
– Спасибо тебе в шапку, – зло поклонилась Фроня и пошла домой. Но Петр Михайлович продолжал свое:
– У меня дом в Грузии.
– Твой дом такой… как вон сын с батькою дрался, цыгане, схватил батька кол и турит его: «Пошел, сукин сын, со двора!» А сын бег, бег, оглянулся: «А где ж у нас двор? Один шатер». Так и у тебя. Пораспырял добро по свету. Был он, тот дом, у тебя? Всюду он шастал, и везде начальником. Из тебя начальник…
– Я с Колымы сто тысяч привез.
– Эй, язычник! Язык отсеку! Не вынуждай меня. Иди спи. На твои средства во такой рот разинуть.
– Сам себя выхваляет человек, – сказал Терентий Кузьмич. – Иди, иди, Михайлович. Дочку обидел, нема совести.
– Чем я ее обидел, пап, мам? Разве я сругался? Мы культурные люди, пап, давайте жить мирно.
– За хорошим мужем, Михайлович, – учила его, как ребенка, Мария Матвеевна, – и негодная – жена, а за плохим и павна – раба. Иди спать.
– Я плохой зять? Я всегда: папочка, мамочка.
– Чтоб поднесли. Не то у тебя в голове. Как Бог создал тебя, так и живи. А ты? Тебе уже пятьдесят лет, тело твое отошло, здоровья нема. Жену жалей.
– А что я плохого сказал?
– Иди, Михайлович, иди спи, – провожала его рукой Мария Матвеевна. – Иди, ради бога.
Его ничто не обижало.
– Говорила я Фроньке: «Зачем он тебе такой? Палкой его со двора!» Надели на его тело немытое, он теперь и выхваляется, собака драная. Весь свет объездил с женой покойной, нигде не нужны были. Приедут, попьют, их по хвосту. Говорила: живи одна, у тебя и хлеб, у тебя и мясо, и сало. Приняла голого, а он давай деньги считать. Где они, его деньги? По карманам ветер воет. Он свои деньги в горло вылил. В Колыме какой-то работал охранником. А баба его, что повесилась, поваром ли.
– Отчего повесилась? – спросил я.
– А беспутство доведет. «Дети наши на полете». А детей нет. И одно только у них: дай трояк, дай пятерочку. Глядь, не чуть ее. «Ни на кого не обижаюсь, обижаюсь сама на себя. Больше жить не могу». И надевать нечего. Чужое надели. Как ни живи, а три перемены надо. И он еще брыкается, что бостон носил! Э-эх. Хаточка была на куриных лапках, на веретеных пятках. Богачи. Болтать – царя собьют, да дела нет. «Дай трояк!» У нас этого нету. Мы не знали, Иванович, как это можно побираться.
– Не-е, – сказал Терентий Кузьмич, – избави бог, Иванович! Избави бог.
– Чтоб он пошел украсть соломину или чужое просить: да сдохни она, коровушка, чтоб красть. И живем.
– Избави бог…
– А Фронька? Инвалид. С двенадцати годов, – подняла палец Мария Матвеевна, – пошла работать! А ну-ка! Есть у ней сила? На работу огневая была, о-о. Война примирилась, – стала она рассказывать мне, – я хлеб пекла колхозу. Я как зря не сделаю. Принесут мяса: «Матвеевна, заваривай». Я картох начищу. Молока выпишут по одному литру на день. Получу, делю, да души нету. Как мне разделить? Свой кувшинчик несу. «На, деточка, тебе ж не хватает». У нас корова была хорошая. Года три пекла трактористам и на покос. За Десною: дале-еко! Получу пашеничной муки, сважу, возьму десять литров воды на пуд налью. А печка наша пекла – хлеб на дыбочках стоит! Кину на лопатку круглую, вмешшается шесть булок. Печка наша нагорит, с дежки хлеб бежит. Жарок откину, хлеб схватился славно, не шшетиночки на нем. И везу. Как привезу: «Тетки Терешшихи хоть бы хлеб мне достался». А чего я буду хитровать?
– Чего хитровать… – соглашался Терентий Кузьмич.
– Ой, постель зовет… – вздохнула бабка. – Наверно, дождь будет. Прямо кричит спина: «Ложись, бабка, ложись!»
– Иванович, – подошел ко мне Петр Михайлович, – я отстал, как там с Китаем?
– Эй! – усмехнулся Терентий Кузьмич. – У тебя дома свой Китай. «Как с Кита-ем…» Оно тебе понять? Иди, мужик, послушал, что тебе сказали, – подумай. Да, да. «С Китаем…»
– Пап, ты темный человек, а я цивилизованный. Иванович, я могу дать вам большую тему, завтра поговорим. Папа, мама, не сердитесь. И вы, Иванович, ложитесь, устали.
– Заботу он проявляет, – сказал Терентий Кузьмич. – Иди, Михайлович. Без тебя.
Мы не уследили, как он исчез. Мария Матвеевна еще немножко пообсуждала его, но в голосе ее не крылось ни капли злости: что с него взять? Сами приняли его, уравняли, и он с удовольствием стал обузой. Много историй из жизни брянской деревни вспоминает при этом Мария Матвеевна, но все они, точно нарочно, посвящены терпеливому русскому характеру.
Уже девять часов. С горки тянет холодком. Пора раскрывать постель. Я так легко не засну, а Терентию Кузьмичу, который встает в пять часов, укладываться в самый раз. Он стаскивает сапоги, разминает сомлевшие пальцы и валится на бок. Радио, свет ему не мешают. В другой комнате Мария Матвеевна взбивает гостю подушки.
– Я тебе два одеяла положила, чтоб не замерз. Ночь сырая. Под головы не высоко? Миша наш не любил. Спит, разбросается: голова с краю, а ноги там. Ты тоже?
– А как попало.
– Много куришь, Иванович. Это все из скуки. Брось, будешь крепоче. Пожалей сам себя.
Я помалкиваю. Через некоторое время раздеваюсь и лезу под одеяло. Мария Матвеевна снова заходит и стоит посреди комнаты. На стене фотографии ее детей, и она тоскливо смотрит на них. Как серьезны эти сельские лица!
– Встану, так начинаю со всеми разговаривать. Везде побываю – и в Голубче, и на Ловше. Да бьюсь, бьюсь по углам.
Подсев ко мне, она берет мою руку, щупает косточки.
– Погляжу на нее и Мишу вспоминаю. Глазы открою – стоит передо мной, как сейчас. И ни на час не забываю. Только засну. Береги здоровье, Иванович, пожалей себя и мамку свою. Брось! К чему она, эта соска? Гадость! Орешков лучше подъешь. Я тебе накладу в сумку. Летось внукам насбирала, возила на Брянщину, дак осталось. Я деду не рассказывала, и, смотри, ты, Иванович, не говори.
– А что?
– Чуть не замерзла я на Брянщине. Не увидал бы Марию Матвеевну. Я ж, когда приеду, усех обойду, отведаю. Племянник, как встретил, пообцеловал мои руки, пообцеловал меня всее: «Тетушка, ну ты ж как мамка моя! Что на тебя, то на маму гляжу». Усю родню отведала, а у него не была. Выпьют, песни поют, а я только в каждом дворе умыюся слезами, да и все. И по брату надо ж пропеть, я не была на похоронах. Восемьдесять семь годов прожил, умер хорошо. Пошли дровы заготовлять на самые Покрова, четырнадцатого октября. Стал дровы сечь, «ой, чего-то нехорошо мне», и воды напился, ах, ах, и умер. И меня не вызывали, пожалели. Восемьдесят семь годов! Да, стало быть, Богом дано. Поголосила я по брату Минаю, оттуда ж что? Пойду племянника отведать, что руки мне целовал. Побыла. Уже темнеет. Пять километров до Ловши, где Григорий наш живет. И у него ж надо погостить! Дает мне племянник дочку свою в провожатые. Мы и пошли. А ночь, а буря поднялась, а ветер, глазы залипает. «О, дойдем», – племянница. На ней шуба хорошая, на мне только перешитая. «Баб, ветер дует навстречу, с северу. Не собьемся». Или ветер повернулся? Идем, идем – нет, не туда. Что ж нам делать? Я уже смякла, мокрая так вот, рубиночки нету. Блудили-блудили, блудили-блудили, не видно ничего. Нема ни логов, ни стогов, что клевер стоял на дороге; километра два с половиной отошли от села и до Ловши два с половиной, не меньше. Ой, куды мы с тобой зашли? Повернулись так-то во, омет стоит с соломой, завеян, сдается, как гора, как-то двоится, если глянешь. На нем снег толстый набитый. Она полезла, полезла да снег обсунула на омете: «Ну, баб, давай ночевать». А я уже не действую, уже мои руки не служат – только смерть. Нема ни спичек, хоть бы надергали да распалили огонь. Да боимся, что волки задерут, опять волков развелось. «Я не могу, аж за сердце берет – ноги…» – племянница. Я ее зарыла и сижу. И заснула она. Заснула, а я сижу на карауле, думаю: «Волки придут, попорвут. И выйдет по старинушке. Мы хоть закричим, может, утекут от крику. И палки нет».
Соломою накрылась, горюю. Как присну, так и смерть. Я Богу помолилась на четыре стороны, за всех попросила, за Григория, за Фроньку, и внуков усех благословила жить счастливыми – ну как замерзну? Племянница моя спит. А я ночь просидела, стало зарять, боимся и вылезать: «Куды мы зашли?» Я глянула: «Ой, сад наш виден, а где ж мы ночуем?» И-и! Блудили вокруг поселка. И померзли б, никто и не знал, и завеяло б нас в рову, и весною б только нашли. И померзли б. Пришли к двору, горевали, горевали: не нашли б нас до весны. Так бы в ров ввалилися, не нашли б этого омета. Вот, Иванович. Ну, спи. Месячек светит. Ты еще читать будешь? Молочка попей, на столе. Сало, если за-хочешь, в тарелке. Ночью встанешь – дедовы сапоги обувай. О-ой, – вздохнула она. – Плачу, плачу по Мише и не верну. У него было умильное слово и жалость. Обешшал беречь мамку. А я его похоронила вперед. Спи, Иванович.
Я вытягиваюсь поудобней, но заснуть не могу. К ночи всегда мне тревожней. Тут-то и понимаешь, что душа твоя на свете всегда одна. Кого бы она ни любила, с чьею другой душой ни перекликалась, чуть замолкли чужие слова, исчезло лицо – она снова одна, сама с собой. Оттого ночью она и вспоминает кого-нибудь близкого, не так страшно ей тогда. Спит ли моя мать или горюет обо мне?
Я встаю, тихо одеваюсь и выхожу на дорогу. Она белой полосой удаляется из-под моих ног к горам, где висит месяц. Я долго иду вперед, к нему.
Через четыре дня мне исполнится тридцать три года. Мать уже написала, конечно, поздравительное письмо, оно сейчас едет где-то по России в почтовом вагоне. Пусть же еще на много лет сбережется это счастье – писать и видеть друг друга. Иного века у нас не будет. Я иду, гляжу вокруг и как будто ни о чем не думаю, но внутри что-то такое шепчет и молит: не откажи, судьба, в милосердии твоем и не оставь мою матерь одну на земле!..
Я стал навещать их по нескольку раз в год. Если меня долго не было, старик удивлялся: «Чего ж Иванович не едет?» И ждал меня обычно под воскресенье, торчал на дороге. «Нету опять Ивановича!» А где ж я был в те дни, в те часы? Дома? В Тригорском? В Ленинграде, в Москве? Сидел ли у Ярослава Юрьевича в новой квартире, у Кости на даче или пил чай на улице Костякова? Из Кремля как-то, в большом перерыве съезда вернувшись в Георгиевский зал из палаты Ивана III, послал я им открытку. Писал, помню, и думал: «Что сейчас с ними? Вот бы сюда их, в зал или в царские хоромы – как растерялись бы они, сколько бы наивных вопросов задали, за сказку почли бы и Кремль, и саму Москву».
А время шло. Однажды завернул я к ним из Тамани. Опять, когда подходил к их забору, Терентий Кузьмич не сдерживал слез.
– Мы рассчитывали с бабкой не пускать тебя, – сказал он. – Да-да. Почему на Новый год обешшался и не приехал с Борисовной?
– Не мог. Мать приезжала.
– Полный месяц гостила?
– Две недели.
– Слава Богу. Слава Богу, Иванович.
– А теперь я привез к вам пустые бутылки сдавать. У нас в городе не принимают. Да по ошибке одну с водкой прихватил.
– И-их, Иванович! Ну ты!
– Зря тратишься, Иванович, – сказала Мария Матвеевна. – К чему она?
– Мы ж деда за Райку пойдем сватать.
– Ей только за Леню-горбатика. Что сук на спине носит. И то не возьмет. У него и нога не служит, идет, трюкает. Городецкие клуб строили, из Армении наехали, поженились на наших бабах на лето, вдов да разженных много ж. Дак пристал к ей один. Э-э, менять мужей, как цыган коней. Не дело.
– Проходи, Иванович, в хату.
Я вхожу в комнату. В углу свисают с иконы расписные концы полотенца. Кровать переставлена поближе к печке, на полу свежие, вытканные бабкой дорожки. В другой комнате лежат на столе мои книжки, я притащил их с собой в какой-то год читать перед сном. А сад, сад! Он бьется густыми ветвями в окно. Устал я отчего-то. Теперь забудусь здесь, посижу под сливой у речки.
– Я, Иванович, в июне к тебе собиралась, – сказала Мария Матвеевна. – Думаю, поеду к Ивановичу за советом. Пожалюсь, и, может, он знает таких людей, что разберутся. Сядем, расскажу вечером.
– Напишем правительству, Иванович, – сказал Терентий Кузьмич с той искренней верой в полезность письма, которая крестьянам присуща особенно.
– Ай не… – отстранила его охоту Мария Матвеевна. – Ты ж не понимаешь. Чего мы скажем? Мы неграмотные.
– А что такое?
– У глазы лепют что зря. Матка зятева. Ховря. Выявляет, будто мы у немцев служили на Брянщине. Я тебе расскажу. Поужинаем. Напишем, Иванович, – волновался Терентий Кузьмич. – Их потрясут! Тому не честь, кто на самом деле у немцев служил.
– Мы с дедом оказались кругом виноваты. Из-за Ховри. Такая – о-о! Что и мы не знаем, так донесет.
И, не откладывая на вечер, Мария Матвеевна посвятила меня в то, что было в июне.
– А началось так. Родила у Ховри младшая дочка. Они крестить. Едут назад из станицы. Зять наш сидит около сарая колхозного, мужиков много, и он сидит. Слазят они с автобуса, он подходит, поцеловался и думал позвать в гости к себе. А Ховря ему: «Чего ж ты не пошел на хрястины, все тую гадость свою слушаешь?» – Лукерью, значит. И как-то она ешо нехорошо назвала. А Лукерью на крестины не звали. И он ее как пихнул, матку свою, и она завалилась в кювет, похмелевши ведь. «Ой, убил, сукин сын, ой, убил!» И как сели на него две сестры и матка и колотют у трех! Одолели, хоть он бык здоровый. Там и сестры здоровые, да и матка: можно до станицы на ней доехать. А Лукерья шла с ведром и села в холодочку. Девка выхватилась: «Теть Луш, там бьются на остановке!» Она кинулась: «Ой, убьют!» Прибегла да тянет его за руку. А тут-то большая сестра, у ней сумка рабочая, и Лукерью сумкой по голове. Лукерья отделялась, отделялась, она усе вслед за ней. Она тогда к ведру подбегла, хвать – и ну, как от собак, обороняться. А тут и другая сестра. Как ударили Лукерью, и она наткнулась, наткнулась, и без памяти. Люди кричат: «Ах, бандит!», – а заступиться некому. Понесли на руках Лукерью. А я пошла тот раз на Григория погадать, в станицу. Григорий нечутен, где он делся? Письма нет и нет. Иду оттуда, навстречу Ховря: «Твоя худобинная дочка, все равно я теперь светову сову загоню, где Макар телят не пастевал». И как зря ее. Что ж я: прихожу, Лукерье бабы дуют на руки, и она сидит, духом опала. И с тех пор! Подступают с битвой на нас, обславили по хутору как хочешь. Люди ж не знают, они на Брянщине с нами не жили, и верят. Что нам делать, Иванович?
– Так она что, Ховря?
– «Ты полицейская!» – кричит на меня. – Это ж надо.
Она бросила мыть посуду, присела. Я закурил. Терентий Кузьмич, как всегда, слушал и поглядывал через окно на дорогу. Дверь в сенках была открыта. Плеснул дождик, утих, но потом снова застучали капли по крынкам, опрокинутым на колышки.
– Значит, настал второй год, как война поднялась. Терех мой болит, его мина побила. Я два месяца рою окопы, наши назначили. А Фроньку взяли, чтоб бойцам хлеб пекла, обед варила и в лес носила. Вот тебе перед самым Покровом появляется в село германец. На три перекрестка шел фронт германский, ой, боже. Село широкое, окружили нас, как стали пули огненные сыпать по селу! И по лесу крест-накрест бьют, поливают. Кругом усе поселки повыпололи. Кони по лесу бродят а де зря. А мы в перегородку забились, и нету только Григория и Миши, с коровами у лесе. Ох, хоть бы уж побили, да вместе. Стояли с месяц. Ладно. Германец отступил, а тут приходят наши партизаны, уже зима началась. Под Октябрьскую. Хлеба добывать идут. И усе это велось до самого Крещенья, уже Святки подошли. Партизаны забрались у лес, там строят. Хлопца нашего Григория затянули в отряд. Стал Терех туда ездить. Ну, что ж, привозит наш кладовщик муки мешок: «Знаешь, Понурова, что: пеки партизанам хлеб. И суши сухари». Я хлеб пеку, сухари сушу, и Терех отвозит у лес. А она вот: выявляет, что мы выдавали людей. Я говорю: «Нет, не выдавала, не выдавала я! Я пекла хлеб своим, с окопов меня взяли, а летом обед носила по коноплям». Я могу документы привезти с Трубчевску! Есть же там, Иванович, кто подтвердит, как я нашу разведку встревала?
– Не надо никаких документов.
– Она мне глотку затыкает. Я докажу. Партизаны пришли ночью: «Понуровы тут живут?» – «Тут». Сами у накидках германских. Хлеба даю им. А самое начальство – разведка. Другой раз приходят. Я их накормлю. А соли у нас… как отняли полицаи соль – нету посолить. Я им становлю несолено: хлеб несоленый, щи несоленые. «Мать, нас не накормишь, сама себя голодной оставишь». – «Да ладно, деточки». Становлю молока. Идут в третий раз: разведка не разведка, несли мины подкладать. Уже зарять стало. Они стукают у окно: «Матка, открой!» Окно на восток. Две молодицы с ними, одна с-под Москвы, другая с Почепа. «Детки мои, что ж вы ели там?» – «Мы заблудились, несем мины подкладывать на большак».
Я их покормила. Голодные, одни гнилые картохи ели у лесе. Ну так. Вот тебе пошли. Я выглядаю: куда ж они пошли? А у этого партизана я спросила фамилию. Он Хворостинин, я мамку его знала – Васюта. У меня солома была, вот так у двора. Если б они сказали: «Тетка, мы в соломе отлежимся», я б их зарыла, и они б перележали. А они хотели к его тетке зайти, да нарвались на чужой дом. «Ну, хозяйка, спрячь меня хоть под печку. Просижу день». Та к старосте, да и заявила. Староста надевает шапку и в штаб. Приезжает полиция, атаковали этого партизана. Девок не чуть. Ой, ведут! – всплеснула Мария Матвеевна руками, и сейчас еще переживая боль. – Он у макушке высокий. Связали ему руки, бьют его ложею, бьют и туда, и по голове, а я вся помираю: «Боже мой, как уловят моего Григория, так-то будут бить! И-их!» – заплакала она. – Девки мои заскочили: «Мам, бьют партизана, кровь с его льется». И он вот так вот сидит, и кровь с уха, с носа, с рота. Гляжу, откуда-то едут новые на конях и офицер с кокардою. Как стал полицай парня в горбяку садить! Бил-бил, бил-бил по горбу, – хоть бы он ответил слово какое, молчит. Я обмираю. Подлетает полицай с плетью к нему: «Ты кому будешь служить?» Да плетью его. Не отвечает ничего. Положили тогда его на повозку и отвезли у штаб, а дальше в Германию. Ну, видала я? Они думают, я брешу это все. Как я могу это сбрехать! Я усе знаю про войну. Им не поздоровится, что говорят.
– Успокойтесь, Мария Матвеевна.
– Назвала б она меня русскою девкою, я б стерпела: одна на одну усе ж кричим. Ну как неприятными словами, полицейскою, что я будто с германцами водилась и водились дочки мои – куда ж это? Терех наш дома был. Нас за Григория, что в партизанах, чуть не расстреляли. Как что, так идут: партизанская семья!
– А сами они что делали?
– На Кубань сбежали. Никто у них не воевал, это ж у нас родные воевали: брата убило и четырех племянников на фронте. Григорий в плен попал. Они приехали в колхоз, когда уж ни войны, ничего. Чего ж, они только гуляли?! Это мы гуляли?! Не знали, куда горе девать. Ей двадцать человек поставь, она всех облает.
– Перестанет.
– А не, – сказал Терентий Кузьмич.
– Она кричит, пока вокруг молчат.
– Люди ж не жили с нами на Брянщине.
– У тебя, попрекает, племянница затопилась! – Мария Матвеевна встала. – Да что племянница нагуляла, как твоя дочка? Виновата племянница? Или она одна в свете затопилась? Никто не знает, где смерть получит. А твоя матка овечку стянула с двора, да поймали, овечку ту повесили ей на шею – да по деревне, звонили в косу, скакали ребятишки перед нею. Это ничего. Язык бы тебе вот так во, чтоб перед смертью люди и увидели: во наляскалась!
– Овечку ей на шею?
– Ну, и водили ее по деревне.
– Правда, Иванович. В миколаевскую войну было, – сказал Терентий Кузьмич.
– Я дуже ласкова была, дак стыдилась на речи эти, чтоб попрекать, хоть матка ее и овечку покрала. Вот что теперь делать с этим, Иванович?
– Да плюньте вы на нее, дуру такую, – советую я и забываю, что так же пусто советуют мне, когда я возмущаюсь бесстыдством своих недругов.
– Она Лукерье нашей жизни не дает. Если мы полицаи, приняли б моих братьев в члены партии? У меня два сына в партии. Съездить разве на Брянщину, возьму документы с сельсовета, где мы были в войну.
– Какие документы, Мария Матвеевна! У вас все на лице написано.
– Старались, старались, и вот тебе. Приехала полиция, а я сижу с детями. Сын у партизанах, и председатель колхоза у партизанах, и брат его. И батька их бег, а люди видели. Немцы в село залетели, подбегает ко мне полицай с ложею: «Скажи, куда человек побег?» – «Сынок, стреляй меня с детьми, никого я не видела!» А побегли в жито – и мужики, и ребятишки, и племянник наш, и Свиридов Егор, рябоватый, с Лукерьиного года. Я сцепила руки, девка сидит у меня, третий годок, а Ваньке два, говорю: «Стреляйте меня, никого я не видала!» – «Докажи, где председателева семья?» Как же буду доказывать: мой сын у партизанах. Как я буду выдавать? Застрелили б, и то не сказала. Пропала б одна и с детьми. Пускай народ усей живет. Это ж правильно, Иванович! И она мне прицепила! К нам полицай пришел да Фроньку ложею как потянет. Дороги скородить послали. И партизан кормили. Ну как теперь жить, кому пожалиться?
– Она все гавкает?
– Ну. Не нравится, что мы законно живем. У нас усе дети поженились и живут хорошо. А ее дочки поженились: одна, как кошка, на потолок забралась, а другая… у лесе. Привела на потолок, на потолку и женились.
– Не нравится, Иванович, что мы по-ихнему жить не можем, – сказал Терентий Кузьмич. – Хочется, чтоб сын ее Лукерью бросил.
– У нее одна песня: «Она негодная!» Чего она негодная? Ведра ворочала – годная была? По пятьсот голов в день поила. Сколько ее сватало, а мы отдали как змее в руки! У нее дети ровно губернаторы. Она годна, потому что по закону, а ваш закон по всему свету растянулся. Лучше б я повесилась на горькой осине, чем пошла в их семью.
– Уже внуку четвертый год.
– И вот они жучут его: «Почему с ей живешь?» Думает ее голова? Можно ж так? Шестеро детей родила, и не такая. Речами ее убивают. Выцвела в былинку. Надо б выказать им хорошо, с сердцем, лучше б было, – не гнуться и не плакать. А он за глаза матку свою хает, а в глаза не смеет. Взял бы да сказал: «Вам дрянь, а мне хороша. Она у меня шапку золота стоит». Молчит, э-э…
«Эх, – думаю я, – будет ли конец этому? Отцепится ли когда от благоверных людей всякая нечистая сила?..»
В семь часов я еще сплю, а они на ногах спозаранок. Мария Матвеевна несколько раз подойдет к моей постели, укроет: «Пооткопался Иванович, ему и холодно. Старик поехал в станицу сдавать телячью кожу. Толченочку сделаю. Такой же картошенный, как Миша».
До обеда я буду заниматься, писать и зачеркивать, иногда хитро жду какой-то уловки, чтобы встать и уйти. Кажется, если я похожу у речки, складные и точные найдутся слова, они выпорхнут из кустов, донесутся ко мне с дороги, глаза мои поднимут их с земли. День светлый, теплый, хочется жить, а не загонять живое в узкие желобки. Я обманываю себя и выхожу. Терентий Кузьмич успел вернуться и точит в огороде пилу. Дрова порублены, сложены, пила сгодится разве весной, но он ведь крестьянин, он мудрее и крепче меня долголетней привычкой своей. Нигде так не охватывает меня уничижение, как в деревне.
– Сдали? – кричу с порога.
– А не. Закрыто. Зря съездил.
– Ну, так, может, срядимся? За сколько уступишь, дед?
– Дорого возьму, товаришш.
– А как бриться, то бесплатно. Усы-то мешают?
– В стакан обмочаются, когда пьешь. Сбреши, сбреши, Иванович, чего-нибудь.
– Некогда брехать, пойдем за Райку свататься.
И не шутится. Я говорю, а самого что-то терзает, мысли вертятся вокруг того, над чем я мучился в комнате за столом. И на улице еще плоше, еще призрачней моя застольная правда.
– Сейчас в карты сгуляем, Иванович.
– На кожу, ладно?
– Эй, мужи-ик! – засмеялся он. – Иванович! А в Кремле, ты писал, был, правительство видел?
– Видел.
– Не разговаривал?
– Не-ет, – улыбнулся я.
Я гляжу на его выразительные руки. Все в этих руках: и сила, и память. Они касались материнской груди, рвали ягоды, ласкали молодую жену, подбрасывали кверху детей, принимали мокрых телят, и загораживали глаза от солнца, и вытирали слезы. Тысячу лет они держали пику, косу, топор, ружье, вожжи; тысячу лет крестились, обнимали солдат, благословляли: тысячу лет подпирали они своды великой Руси, эти крестьянские руки.
– Вполовину нема, – сжал он кулак, – о Иванович, нема вполовину. Раньше быка б повалил. Отдыхай, Иванович…
В сенках Мария Матвеевна ткет дорожку из матерчатых лоскутков. Я сажусь рядом. Сейчас только затрону ее чуть-чуть, и польется ее речь. Вот уже и сказку рассказывает – «про талан и счастье». Не обо мне ли та сказка? «А что ж вы за люди?» – «А мы талан и счастье». – «Где ж мое счастье, что я пал духом?» – «А твое в печи замаслено. Видно, так тебе страдать». Или вспомнит старинушку брянскую, пропоет: «Скука мне, досада, на улицу не иду. Того дружка не вижу, которого люблю». И час, и два – я все сижу около нее. Обо всем, обо всем говорим с ней. О корове, доставшейся «от хорошего человека», о младшем сыне Иване, который меня почему-то стесняется, о внучке («ей с мая на двадцатый уже повернуло»), о том вперемешку, что не имеет сюжета, как зачастую и сама жизнь: день за днем рассветают и меркнут, вроде нету никаких перемен, а к смерти все ближе, все ближе. Уже холодок ползет в сенки, отобедали, с лесной стороны глядит солнце и клонится за горку.
«Вечер вечереет, – тянет Мария Матвеевна, – колышется трава. Не идет, не идет мой милый, пойду к нему сама».
– Никак, – говорю я, – не доеду до вашей Брянщины. Все через Воронеж поезд. Так хочется взглянуть, где вы жили.
– Монастыришше. Земля далеко растянута, холстиной.
– Обязательно побываю.
Правда, как бы это хоть переночевать в их селе. Монастырище – для меня тоже святое место. Кто знает, не явится ли оно, если поживу еще долго и буду ездить туда, тем же отрадным уголком воспоминаний и грез, что и усадьбы поэтов? Многие места не навестил я еще. Когда? На станции Топки, где я родился, откуда двухмесячного унесли меня навсегда, не ступала моя нога целых десять лет.
– Вы, Терентий Кузьмич, Москву видели?
– Не, Иванович, – безропотно ответил он. – Скот пастевал, плоты по Десне гонял до Киева, а Москвы не видал. Сына Михаила летел хоронить, на конце Москвы пересадка была.
– Ездить – во такой карман денег надо, – сказала Мария Матвеевна. – Оно везде хорошо, где нас нет. Жили у Десны, и ладно. Раньше наш батька у Крым на соль ходил. Как поедет от проводов после Пасхи – и до 14 ноября. А бабы дома. Я пряла с малолетства. Сестра: «Маш, вставай прясть», – будит. А мне спа-ать хочется. Я ее нянькою звала. Греюсь помаленьку у печки, да потом в печку влезла в русскую и спряталась… «А где она делась?» Я сплю в печке. Жили мы, Иванович, у Десны, и за то спасибо. А в Москву за песнями ездить – некогда. Я еще помню, как выйдем гулять на Десну, мужики баржи тянут. Возьмут тряпку на плечо и тянут. Батька мой тринадцать годов жил по батракам. Мамка не хотела идти за него, у его ж нема ничего, бедный. И сама батрачка.
«Живаху каждо с своим родом на своих местех».
– Съезжу, съезжу в Монастырище.
– Давай письма напишем.
Каждый раз глядят они на белый лист, диктуют, высокими голосами просят детей отозваться с Брянщины: «Где вы там? Внуки здоровы?» Терентий Кузьмич без конца курит.
– Свату напишем.
То было зимой, шли дожди, и мы с утра до вечера торчали в хате.
– Прислал сват, обижается, что Терех был рядом и не зашел. Это ж мужи-ик, – строго сказала Марая Матвеевна, – была б я, я бы по колена дошла. Я бы не собирала стаканы по дворам!
– Нельзя пройти было, – оправдывался Терентий Кузьмич. – Ей-богу, Иванович.
– Я б дошла.
– Усе дороги заметены, куда пойдешь? Внуков повидали, а больше не могли. Ей-богу.
– Чтоб я сдурна побожилась? Нема сердца у мужиков. Пиши, Иванович. Соскучились дуже по вас, сват и сватка, скоро ж вы, сваток, разрушили нашу дружбу, а мы ни при чем не виноваты, что вы забыли нас. Стану письмо приказывать писать и не соображаю, что мне говорить за слезами…
– Пиши, Иванович…
– Что ж ты, сваток, не скажешь нам про нового зятя. Нехай Аня не вводит деток в заблуждение, чтоб фамилии и отчества Мишиного не ломали, чтоб дети так и были Михайловичи, по отцу. Не смарайте его фамилию. Э-э, – сказала она в раздумье, – замуж вышла за кого? Корявый, как кожан. Можно ж привыкнуть к такому человеку? Ой не знаю. Мишка наш – картина. Где она, хотя Аня, на двоих детей возьмет? Разве какой вдовый или разженный. Нема девки – и бабе рад. По случаю какая у кого умрет, у него тоже дети. Писала нам: «Дожидаться мне некого, Миша ко мне не вернется». Ох, мы голосили тут, голосили… Я его видела. Старый, лицо черное, тмяное. Она-то добрая, красивая, аккуратная. Такая – ей цены и меры нету. Не манерная, сколько у меня невесток, из всех невесток невестка. Болю об них, горюю, как об Мише. Григорий написал ей: «Невестушка Аня, дорогая моя, гляди своего мужа, как моего брата: люби, дружи и уважай». Я думаю, не найти ей такого, как Миша. Больно он тихий, водки не запивал. А дочка, что на Ловше живет, не одобряет. Сказала: «Сгуляла свадьбу, как молодая, чего ж она?» Я переживаю, чтоб и ей хорошо было, и внукам. Ой, томление. Нагоревалась она тоже вдоволь. Мамка моя говорила так: «Если матка плачет по дитю, речка бежит от слез, если сестра, то колодезь воды стоит, а жена плачет, как корова по быку ревет». Оно правильно это. Что написал Иванович?
– Когда приедете – писать?
– А жива буду, то к Пасхе. Написал ай нет? В свете нет такой молодицы. Прибежит: «Мам, давай постираю!» Так она пообыщет усе тряпки, какие постирать. Не пиши, что болею, будут плакать.
Тут помешал нам младший сын Иван.
– Запрягли Иваныча, – сказал он.
– Взял бы да написал сам, – укорил отец.
– А-а, его не допросишься.
– Чего бумагу переводить? Сядешь, скребешь в башке – чего писать.
– Миша жил на целине, и одного письма ему не послал. А теперь куда? В сырую землю?
– Встречались, говорили, а то – так…
Чем-то недовольный Терентий Кузьмич молча протянул ко мне руку за сигаретой, закурил и вышел. Долго смотрел с порога на горы.
– Ты бы, мать, – вернулся он в комнату и выставил палец в сторону сына, – ты бы взяла хворостину хорошую да по горбяке ему!
– Чего? – поднял голову Иван.
– Он знает чего!
– Знает…
– Да, да, – топтался Терентий Кузьмич вокруг сына. А то на старости наверну во, да, да, вон туда полетишь. Я не побоюсь, что тебе более тридцати годов.
Мария Матвеевна, как и водилось всегда в старых семьях, отдала хозяину всю власть и права, только слушала. Иван покраснел и точно прирос к табуретке.
– Сошелся, сынок Ваня, жить – нечего по сторонам глядеть. Да, да.
– Кто меня видел?
– И не дай бог, чтоб видели. И чтоб в голове не было такого. Я хозяйке твоей верю. Да, да. Нечего. Ешо раз, – вытянул он опять палец, – пожалуется хозяйка, – прошшай, сынок Ваня, и забудь, что у тебя папка и мамка есть.
– Ничего не было.
– И славу богу. А глаза не пяль. И чтоб хозяйка не переживала. Да, да.
– Да-а…
– Умом рухнулся, – сказал уже помягче Терентий Кузьмич. – Моргай за тебя!
– Чего моргай? И где я был? Кто меня ловил?
– Э, разговор дерваком: хвать, хвать, – сказала мне Мария Матвеевна. – А злости нема. Дай бог, по закону оженились и живете. Не по колдовству. Тут есть всякие, чужих мужиков сманывают. Догуляются, просе…ут свою красоту. До время цвет цветет, не дергать его куды зря, чтоб не завял. У нас одна гуляла-гуляла и пошла за последнего, какой никому не нужен. Бывало, шапку с него собьет и ну толочь. Красивая, на веретене крутилась. Идет с воды, так она вся… ягода! И пришлось эту шапку целовать. А пьянствовал, а бил ее, усе подушки и рубашки посек топором. Внести тебе молочка, Вань?
– Не хочу, – расстроился Иван.
– Попужал отец, – засмеялась Мария Матвеевна. – После службы первый раз накинулся. Зачем они тебе, сынок?
– И нехай забудет про папку с мамкой, – подал голос Терентий Кузьмич из другой комнаты, где гремел репродуктор. – Да, да.
– Ты раз сказал, и ладно, – стала жалеть сына Мария Матвеевна. – Чего он, глухой ли?
– Мы не знали этого. И в роду не было.
– В роду не было… – поморщился Иван.
– И не было! Да, да.
– Внесть молочка?
– Не. Пойду, – встал он, снял с вешалки шапку и не мог уйти сразу, переминался в сенках, курил, курил.
– Иван наш горя не знал, – сказала Мария Матвеевна. – Григорию досталось. Десяти годов пошел скот пастевать и десять пудов хлеба добыл. Ой, сейчас письмо напишем хорошее!
– Давайте напишем, – говорю я.
– Какой он был здоровый! – воскликнула Мария Матвеевна. – Говорила ему: ня рви силу! Не послушал. В работе горячий, его в колхозе крепко ценили. Как поднял мотор и надорвался. Хлеб теперь возит на коняке. Здоровья нема.
– Здоровый был, Иванович, – пожалел сына Терентий Кузьмич, – от меня втрое был здоровей. Ой, здоровый.
Я чувствую, как любили они в нем эту издревле необходимую в деревне могучесть.
– Девки за ним убивались…
– Сынок Григорий, – диктовал Терентий Кузьмич, – мы, славу богу, ничего, только болим по тебе.
– Гадала я на тебя, сынок, сказали: живой! К нам поздняя дорога тебе предстоит. А куда ж ты путь держишь, сынок, что и нас не минуешь? Сон видела, – сказала она мне, – приходит Миша во двор да говорит: «Бать, какой у тебя дубок хороший валяется на дворе…» – «Сынок мой, я хотел его на дровы порезать, да жалко». – «Дак отдай его кому-нибудь, на постройку». – «А кто ж будет строиться?» Идет Минай-покойник и взял дубок, и понес со двора. Я встала и думаю, и плачу: «Ой, это беда какая-нибудь будет. Мертвый человек понес с моего двора дубок. Миша приказал: отдай на постройку». Григорий завалился, дубок, ой, боже. «Ой, везите меня в ночь, в ночь поеду, я хоть слово ему какое скажу, помогу его горю!» Глядь, письмо. Был в Москве, лечили, сейчас ничего.
– Много перенес Григорий…
– Иван того не испытал. Григорий и в Словакии побывал. Взяли его в партизанский отряд на Брянщине, и шли они хлеба разживаться, а по ним стрелять. Троих подстрелили. Они тогда что: давай бежать с председателем колхоза. Переплыли через Десну, винтовки попрятали, идут, а ночь маленькая. Как заметили их – и с пулемета строчить! Они поползли по житу. А Григорий с председателем отстали. Тех четверо приползли на свое русское поле, сидят в лощине.
– И не так, – сказал из сенок Иван.
– Как же не так?
– Не так…
– А ты там знаешь? – крикнул Терентий Кузьмич.
– Сидят они. Пошел негодный к войне по дровы, а они там! И продал старосте: ребята наши пришли! Ой. Был у нас там обрыв, и валили бедных партизан валом. Григорий с председателем хватились – винтовок их нету. А к партизанам без винтовок нельзя идти, побьют. Все одно гибель. То что ж: и про них выказали. Наш двор атаковали: «Твой сын в разведку приходил! Стрелять будем вас, если не явится». День нема, другой нема и третий. Что ж нам делать? И вот приползли. Приползли по житу спасать нас. И нашел их человек в стогу. «Мама, – говорил потом, – хотелось, чтоб лучше меня пусть убьют, а вас оставят». Так я с ним только встретилась. Пошла узнать, а его староста ведет. Только здравствуй и прошшай. Теперь побьют! Ой, боже, ой, не могу, ой, горе. И зачем он полз? Прошло сколько, приходит баба председателева: «Нянь (нянькою меня называла), пойдем мы на Гулеевку, спросим, куды их погнали». А там два мальчика у немцев подводчиками. «Баб, повезли ваших ребят на тракторе, и, – говорит, – кого на тракторе везут, тех стреляют».
Григория нашего повезли на тракторе. Ну что ж? Чем спасти его? Видно, убьют. Не будет у меня старшего сына. Места себе не найду. «Во ваших ребят где били, – один полицай говорит. – Как везли, возле этой березы постреляли». А тут получился приказ: в плен брать. Привезли их у Брянск, погрузили в вагоны, везут кто знай куда. Председатель и говорит: «Давай спрыгнем, как откроют. Лучше убьемся, чем в плен». А их взяли и разлучили. Наш попал в Словакию.
– И не в Словакию, – сказал Иван.
– А куда?
– Да он знает! – махнул рукой Терентий Кузьмин.
– Сиди, Вань, ничего не помнишь. В Словакию! Нам земли не давали на него. Староста не давал. А кто выказал, десять годов отсидел и живет сейчас у нашей деревне, ряха во.
И вот, как десять лет назад, когда уезжал я отсюда совсем, сидим мы за столом и потихоньку пируем. Скоро ли я появлюсь у них еще или нет, мне неведомо: как-то гончее побежало время и для меня, а старики стали уж совсем ветхи – того и жди печальную телеграмму.
Днем я сходил в усадьбу за речку. В обширных владениях князя Юсупова – графа Сумарокова-Эльстона усадьба эта была одной из заброшенных, ее он никогда не посещал. Забытый, как говорится, богом и людьми (историей тоже), доживал князь Феликс Юсупов в Париже – наверное, последний из сего громкого российского рода. Некому на родине, по усадьбам его, было вспоминать о нем. Мы обитали здесь с Ольгой два года. Могучие дубы, кажется, нисколько не постарели и пышно золотились напротив наших окошек. Синюю дверь заколотили гвоздями, и там, где я спал, читал Плутарха и Ключевского, теперь бегали мыши, лежали какие-то разбитые ящики. Убожество этого жилища меня не раздражало в то время. Зимой стены «текли», пол был холодный, как лед. Прежде здесь размещалась конюшня, затем ее наспех перегородили, обмазали, но полов не настлали. Я и не жаловался. И сейчас я подумал, что в бедной молодости всему радуешься и благодарен за самое малое (за какой-нибудь вид на дубы из окна), а через годы добудешь себе «блага земные» и вскоре осознаешь, что они не прибавили счастья.
В усадьбе я вспоминал, как мы впервые приехали в начале сентября с двумя всего чемоданами и под вечер пошли в лесок на горку; сверху завороженно глядели мы на долину и на другую горку за речкой. Где-то в полуденной солнечной стороне скрывалась песчаная Анапа. Все меня удивляло тогда: и большой перерыв в магазине, где среди резиновых детских сапожек, белья, платков, хозяйственного мыла и одеколона отыскал я в стопочке книг 8-й том Ключевского и стихи Бодлера; и конная почта три раза в неделю; и рукодельные афиши с названиями кинофильмов, опоздавших на целый год; и то, что соседей моих никуда не тянуло и они не ждали, подобно мне, книжному червю, газету «Литература и жизнь», совсем, надо сказать, не слыхали о ней; и рассказы о времени, когда мертвый дуб напротив графской конюшни еще закрывал листвою луну. Я был молод! Но я бы мог умереть через год и, значит, не успел бы написать о брянских стариках, не прославил бы самое в них дорогое: кротость, правду и милосердие. И не пришел бы я к этому голому дубу, не заглянул бы в свое окошко, которое столько ночей светилось в часы моего чтения. Да, там, где я спал, робко гадал о будущем, где однажды вместе с сором подцепил на совок оброненный Ольгой фамильный перстень с бесценным камешком и стряхнул в печку на угли, призраком плутает в пустоте моя бывшая жизнь, а со стены так и не сняли «Незнакомку» Крамского…
– Поглядел? – спросила Мария Матвеевна, когда я пришел. – Уехал, не жалко?
– Жить бы не смог. Вас не тянет на Брянщину?
– А не, – сказал Терентий Кузьмич. – Старое дерево, Иванович, не пересаживают.
– Бедовали много, – объяснила Мария Матвеевна. – Это мы теперь зажили, а то-о… Раньше как: «На что землю пахать под зиму? Вон к Петру спашем, свинья порыет носом, да и то хлеб зародит? Да пополем руками картошку, и ладно. Боже спаси, как мы жили. Иной раз с дедом не спим, вздумаем: „Как же мы жили? Хлеба вволю не ели“». У казаков тута земли много, вот они и дрались с красными. А наши усе в большевики пошли.
– Никогда так не жили, Иванович, как сейчас. Слава Богу.
– Чего там: сарай той снесли? Или стоит?
– Всех выселили, – говорю я. – Глядел оттуда на вашу хату на горке, вспомнил, как мы познакомились.
– А-а… – улыбнулась Мария Матвеевна. – Я рассказывала Олиной мамке, так она смеялась.
– Я не помню, – сказал Терентий Кузьмич.
– Чего ты не помнишь? Я говорю, знаешь, дорогая, как по батюшке тебя? – «А зовите Надеждой, Надей…» Знаешь, милая, как мы познакомились? Мы недавно на Кубань переехали, я ж не разбирала людей ешо. Идут двое на горку, спрашивают: «Бабушка, мы переписываем жителей. Как зовут? Живности много?» Пошутили, а я ни к чему – «Пишите, детки». Я им все открыто рассказала. Иванович приходил с человеком, такой чернявый: не то в гости к нему приезжал? И я от простой души рассказываю, что есть: корова есть, кабанок, курочек вот столько-то, а хата, видите, детки, какая. Пишите. Потом пошли у лес, а я и думаю: «Кому ж я рассказала? Может, какие проходимцы, за коровою придут ко мне ночью», – она засмеялась. – Походили, походили по лесу, идут, несут калины. «Ой, детки, сейчас я вам орешков дам!» Я им несу пригоршень орешков: нате покушайте. А жинки есть у вас? Они сказали: есть. Ну, несите ж и бабам покушать. Терех пригоняет скот. «Дед, какие-то приходили люди ко мне, дак, наверно, у нас корову сведут, они ж шли дорогу проглядать!»
– О-о, Мария Матвеевна, ладно, ладно, – говорю я, – жалею, что в самом деле не увел корову.
– День нема воров моих, и другой, и третий. Нету. Идет учительница. «Баб, не знаешь, где барашечку купить?» – «Милая моя, мы только приехали летошный год, я и не знаю, где барашек тут много, я б тебя послала». Она завернулась, пошла, я догоняю: – «Обожди, я тебе что-то скажу». – «Чего, бабушка?» – «Знаешь, милая моя, есть у вас такой человек в усадьбе – беловатый, волос на нем кучерявый?» – «А на что тебе?» – «Я боюсь, чтоб корову мою не свели, проходимцы какие-то. С ним чернявый был». Она засмеялась и рассказала. Во. Ивановича за вора приняла бабка.
Я полгода не был у них, за столом Мария Матвеевна сказала:
– Привыкли мы к тебе, Иванович. Лежу ночью, думаю: ну что ж Иванович не пишет? Курить бы бросил… Никак не жалеешь себя. Дед наш тоже. А сейчас и девки курят.
В станице Варениковской я купил портрет Достоевского, свернул трубочкой и привез, прикрепил кнопками к стене в их комнате. Мария Матвеевна не раз подходила и долго, как на икону, смотрела:
– Достоецкий, говоришь? Федор Михайлович… В костюме, и галстук ему надели… По-городецкому. Руки сцепил на коленях и сидит. Об чем же он думает – такой невеселый?
– Писатель ведь…
– Писатель? Э-э, грамоты нет, я б сказала, у меня ум вострый. Я легко переймаю. Мишу вспомню и песни придумаю. Придумываю и плачу. «Какую ж мне песню сложить? – лежу ночью. – Какая к моему горю больше подходит?» Пропою, наголосюсь у волю, станет мне легко. И не песня она, а правда. Достоецкий… Ну, спасибо, Иванович. Буду вспоминать, что ты привез. Какие-то мудрые люди есть на свете, складывают. Не он ли ту песню сложил:
– Нет, не он.
Мне очень повезло, что есть они у меня, что был я одарен их лаской, вниманием и понял вблизи, каким тысячу лет был русский человек. Они – последние. Но – чувствую – не за горами наша разлука. Нет-нет да и скажет Мария Матвеевна:
– Дождаться бы, когда Лукерья хату достроит, и умирать можно. И Терех говорит: поеду на Брянщину, на Григория дом погляжу и умру спокойно. Я уже себе усе приготовила: купила рубашку серенькую, не позорную на смерть, тапочки. Пальто куплю, а помру – Фроньке откажу, она дробненькая такая-то, как я, моего росту.
– Не страшно думать об этом?
– Когда лихо достанет, дай, Господи, смерть.
– Пожить бы можно, – говорит Терентий Кузьмич.
– Умру, дак девки мои поприедут да будут у четыре голоса петь.
– Можно жить…
– Спасибо Ленину! – перекрестилась она. – Это он людям жизнь дал. Другая жизнь пошла.
– У-у-у… – сказал Терентий Кузьмич. – Кохаемся.
– Я говорила Мише: «Миша, тогда, как уже батька умрет, я остануся, так буду ходить по вас: поживу у Григория месяц, у тебя да у всех по месяцу». – «Ой, мам, я ж тебя допушшу ходить по дворам? Да я к себе возьму». А я поклонилась ему в пояс: «Сынок мой родный, спасибо тебе за хорошие умильные речи».
– Усе прошло, Иванович.
– Мы уже с ним как дети. И свадьба наша золотая прошла. Мы оженились в семнадцатом году. Братья мои поприбегли с фронту, как царя Миколая скинули. Кто прятался, коров отбирали. Брат Минай поглядел – и в Красную армию. А мне пришлось побираться молодою. Кокошник свой спрятала и поехала с невесткой в самую Троицу к хохлам на заработки. Не венчали нас с Терехом. Я на два года старше, ему полугодия не хватает.
– Золотую свадьбу справляли?
– Не, Иванович.
– А чего ж?
– Горшков нема.
– Каких горшков?
– Смеялись внуки: «Баб, вам золотая свадьба». Я говорю: «Знаешь, дед, давай мы с тобой уже либо свадьбу сыграем, только разжиться нам горшками». Я тебе, Иванович, не рассказывала притчу?
– Не-ет, – уже смеюсь я вместе с ней.
– О! Ты бы подзакусил.
– Закусуй, закусуй, Иванович.
– Жил как-то старик со старухой. Жили скромно, как мы. Хлеба хватает – и слава богу. Молочко свое подоим, как корова отелится, а денег… не забиваться: дадут двадцать рублей, обойдемся с месяца до месяца как-либо. И вот тая старуха, что ж (это не сейчас, когда-то): «Дед, давай мы переженимся, свадьбу сгуляем?» – «А как же нам?» – «Купим горшки новые, мы на головы наденем (как батюшка венцы надевал), стол отодвинем середь хаты, обойдем кругом, молитву пропоем три раза». И вот они «Господи, помилуй» пропели кругом стола три раза. Пошла бабка воды назавтрева. Колодезь от них был далеко. А ехал какой-то, деньги вез рассчитывать людей, хап – и потерял сумку. Бабка как подцепила в ведро сумку – и драла! «Дед! Я деньги нашла!» – «А где?» – «Какой-то человек проехал рано и потерял». И не чуть и не чуть того человека. Дед: «Дай-ка я пойду у шинок». И попивает себе водочку ходит. Люди дивляются: за что ж он пьет? Спрашивают: «Дед, где деньги берешь?» – «Да бабка моя нашла много, я по трошки пропиваю». А тот человек распекается о деньгах. Прошли слухи, что старуха нашла. И заявляется он к ним! «Ну что ж ты, сынок, ко мне пришел?» – «Слыхал я, что ты деньги мои нашла. Так и так, меня разоряют люди, денег было много». – «Не-е-е, я хоть и нашла деньги, так назавтра свадьбы своей», – отвечает старуха тая. «О, господи, это ж когда она нашла! Когда ее свадьба была!» – он и думает. «Наверно, болтают на тебя. Кто-нибудь ешо поднял». – «Ладно, сынок, с Богом». И зажили опять! Так-то и нам бы, – засмеялась Мария Матвеевна. – Внуки приставали: «Когда свадьба ваша?» – «Да, – шучу, – горшков негде взять».
– Нет, – говорю я, – надо бы кому-нибудь деньги потерять, а дед бы нашел. Вот бы часто ходил в магазин, а?
– Не-е, Иванович. Подъешь немножко. Чего мужик выпил и не закусывал? Возьми. Хоть молочка, хоть яечко. Орешков будешь?
– Кушай, кумушка-кума, не засаривай уста. В карман не клади и домой не неси. Так-то моя мамка сказывала. Твоей мамке, Иванович, сколько годов?
– Шестьдесят.
– Ешо молодая.
– Ничего. Но последний раз приехал… уже старушка.
– Сынок, – сказал Терентий Кузьмич, обращая ко мне свои кроткие синие глаза, – как помру, вызывать тебя телеграммой?
– Что ж спрашиваете?..
– А лучше жить. Спасибо Ленину, – опять перекрестилась Мария Матвеевна. – Кабы Миша был живой, совсем бы горя не было. Дед сны видит. И лопочет что зря. «Маш! – слышу ночью. Я молчу. – Мишка пришел. Иди, сынок, у хату. Дровы нам привез». – «А мамка дома?» – Миша спрашивает. – «Дома. Иди, сынок, спасибо тебе, что не забыл». Лукерья видела его, усе руки ему пообцеловала во сне. Он у нас, как вот у царя наследник, над ним хлопочут и любят усе, так и у нас, сестры в нем души не чаяли, и братья до сих пор, если заговорю, со слезами слушают. Всех детей любишь, но бывает один самый ласковый и талану ему Бог дал какого-то. Вот, Иванович. Болю, болю по нем шестой год.
– Налейте, Терентий Кузьмич.
– Рука твоя, как у Миши.
– Спасибо тебе, Иванович, но мужик, гневаюсь, что хозяйку свою не привез. Один раз была. Да, да, мужик. Жду с хозяйкой. У меня тост такой, Иванович: чтоб у вас с хозяйкой здоровье было, чтоб на работе уважали, мамка, тесть, тешша пускай живут на здоровье. Давай, сынок, спасибо тебе. Ня обижайся. Ня обижайся, Иванович.
– Вам спасибо.
Терентий Кузьмич вытянулся к рюмке, долго-долго цедил в губы и столь же долго выбирал глазами огурец в тарелке. Мария Матвеевна несмело выпила, поскорей закусила хлебом и салом.
Завтра утром я уеду. Я заранее знаю, как мы будем прощаться. Терентий Кузьмич ткнется бритой щекой мне в лицо, глаза заблестят, потом скажет: «С хозяйкой приезжай!» Мария Матвеевна наложит калины, кизила, шиповника и отрежет кусок хлеба: «Положи, Иванович. Без хлебушка не ходят. Ну, Иванович, ня обижайся». – «Ня обижайся, сынок», – повторит и Терентий Кузьмич. И буду я бояться, что не увижу их больше, моих кротких незлобивых стариков брянских.
– Какую ж тебе песню спеть, Иванович?
– «Ай бить меня, молоду, есть кому, а жалеть меня, молоду, некому».
– Не. Я вот эту зачну. Батька усе пел:
– Не на тэй голос вернулась… Надо по старинушке, – она пропела потихоньку, встала от стола, перекрестилась.
– Спасибо, Иванович.
– Вам спасибо.
– Спасибо, Иванович, – сказал и Терентий Кузьмич. Я вышел во двор. Осенняя луна красным диском поднималась за дубами на той стороне речки, у горок. А и десять лет назад такою же я видел ее как-то. И еще бы хотел я прожить столько, и столько, и столько, и еще вот столько. Дала б мне судьба «проплыти моря сего житейского» и чтоб «печаль далече отринута от себя». Не забуду я никого. Тихо, голос Марии Матвеевны рассеялся в темном поднебесье навсегда. И разве нам не чудится в одинокие ночные минуты, будто ничто вещее в этом мире не пропадает и еще вернется и возродится когда-нибудь?!
1974, 1978 гг.