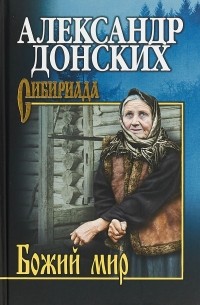Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4. Рыбалка
Папка был страстным рыбаком. Помню, каждую пятницу, под вечер, он копал червей и ловил кузнечиков. В субботу, рано-рано утром, когда в воздухе ещё шуршал чуть знобящий летний холодок, а небо смотрело на нас томно-фиолетово, как мудрец, и сонновато помаргивали в нём тускнеющие звёздочки, я и он уходили на рыбалку, да к тому же зачастую с ночёвкой.
Бывал я в разных краях, видывал немало замечательного в природе и нередко говорил или думал: «Какая, однако, красота!» А возвращаясь всякий раз к Ангаре, к её обрывистым сопкам, зелёным, покойным снежным водам, к её опушенным кустарником и ивами берегам и старчески ворчливому мелководью, я обнаруживал в себе, что об этих родных местах не могу говорить высоким слогом, не тянет меня восклицать, а могу лишь смотреть на всю эту скромную прелесть, сидя в один из редких свободных вечеров на полусгнившем бревне возле самой воды, молчать, думать и грустить. Хорошо, скажу я вам, грустится в родимых, знакомых с детства местах после долгой разлуки с ними!
Итак, рыбалка моего детства.
Мама с папкой ссорились из-за его увлечения рыбалкой.
Сегодня мы, как обычно, спозаранку уже пошли было, но мама, вернувшись от поросят, начала с папкой всё тот же разговор о его «дурацких» рыбалках. Сердито гремела вёдрами и чугунками.
– А-а-ня! – умоляюще отвечал на её нападки папка. Когда детей бранят, они лезут пальцем к себе в рот, в ухо или в нос, а папка, когда его честила мама, пощипывал ус. – Аня, для души-то тоже надо когда-то пожить. Бросай всё, пойдём порыбачим, а?
– Порыбачим! – вскидывалась вся мама и с внезапным ожесточением зачем-то сильно затягивала поясок на своём выцветшем халате. – А в огороде кто порыбачит? Всё заросло травой. А крышу сарая когда, дружок ситцевый, порыбачишь? Протекает уже. А детям обувку когда порыбачишь, рыбак-казак? – и с грохотом поставила пустое ведро. Мы даже вздрогнули. – Для души хочешь пожить? Да ты единственно для неё и живёшь, а я вечно как белка в колесе кручусь.
– Аня, гх… не ругайся.
Папка положил на завалинку удочки и мешок с закидушками и снедью, присел на лавку и засмолил папироской в раздумье. Я с мольбой в душе смотрел на него и с невольной досадой на маму и ждал одного решения – пойдём-таки рыбачить!
Папка покурил. Встал. Помялся на месте в своих огромных болотниках, в которых он чудился мне сказочным Котом в сапогах. Взял мешок, удочки. Покусывая оцарапанную рыболовным крючком нижнюю губу, взглянул на маму так, как смотрят на взрослых дети, когда, своевольничая, хотят выйти из угла, в который поставлены в наказание.
Мама была занята растопкой печки и притворялась, будто до нас ей дела уже нет.
– Ну, пойдём, Серьга, порыбачим… маненько… а завтра крышу… кх!.. починим, – обратился папка ко мне, но я понял, что сказал он для мамы.
Она вздохнула и укоризненно покачала головой, однако промолчала. Папка шёл к воротам, ссутулившись и стараясь не шуметь, словно тишком удирал от мамы. «Я понимаю, – быть может, хотел бы сказать он, – что поступаю скверно. Да что же я могу поделать с собой?»
Я обернулся. Мама, прищурив глаз, светло усмехалась.
Выйдя за ворота, папка сразу же выпрямился, словно сбросил с плеч груз, по его усу потекла медовая улыбка. Он пнул пустую коробку, вспугнув почивавшую в траве бродячую собаку.
– Галопом, Серьга! – приказывает он, подтолкнув меня в спину.
На берегу я скоренько разматываю леску на двух своих удочках, наживляю червей. Минута какая-то – и я уже рыбачу, широко расставив обутые в красные сапоги ноги и хмуря брови, как бы показывая, что занимаюсь до чрезвычайности серьёзным, взрослым делом. Однако, от поплавка я постоянно отвлекаюсь: глазею то на облака, то на беззаботных малявок в золотистой воде прибрежной мели, то на воробьёв и трясогузок, что-то клюющих в кустарнике.
Папка же прежде всего сядет, покурит, пуская колечками сизоватый дымок. Посмотрит некоторое время на речку и небо, пальцем поскребёт в загорелом затылке.
Мои пробковые поплавки лениво покачиваются на едва различимых волнах. От досады, переходящей порой в раздражение и почти что обиду на «противных» рыб, которые никак-то не хотят клевать, я часто вытягиваю леску. И, к моему великому удивлению, крючки всегда обглоданы. Покусываю ногти, забываю по-взрослому угрюмиться, впиваюсь взглядом в поплавки, словно гипнотизирую их. Но неожиданно перед моими глазами вспыхнула бабочка. Она очень красивая: исчерна-синяя, с кокетливыми красненькими пятнышками, и вся так и переливается, сверкает на солнце. Присела на ветку вербы и, казалось, стала наблюдать за мной. Я загорелся желанием поймать её. Подкрался на цыпочках и протянул к ней руку. Бабочка, как бы поигрывая со мной, переметнулась на цветок и сложила крылья: на́ меня! Я, едва дыша, подошёл к ней.
А папка вдруг как гаркнет:
– У тебя клюёт!
Я ринулся к удочке и рванул её вверх. Леска натянулась, тонко проголосила, и из воды вылетел радужно-зеленоватый, краснопёрый окунище. Я потянулся за ним. Сейчас схвачу. Счастье-то какое! Аж сдавило дыхание. Руки дрожали, а рот раскрылся, будто бы я хотел заглотнуть окуня.
Но внезапно стряслось ужасное – окунь плюхнулся в воду. Я, вместо того чтобы кинуться за рыбой, зачем-то крикнул:
– Папка! – словно призывал его выхватить из воды окуня.
И в этот миг, можно сказать, судьба окуня и моя решилась: в первые мгновения он позамешкался, потом резко и звонко встрепенулся, над водой пламенем вспыхнул его великолепный красный хвост, – таким образом, видимо, он попрощался со мной. И – сиганул в родную стихию. Я ещё лицезрю его спину, и вдруг, сам не пойму, как у меня получилось, падаю с растопыренными руками на уходящую в глубину добычу. Вода у берега была по локоть. Но я поехал на ладонях по осклизлому бревну-утопленнику, не в силах остановиться. Хлебнул воды и отчаянно булькнул:
– Па-а-апка!
Я отчаянно вертелся и дёргался. Руки соскользнули с бревна, глубина хватко вцепилась в меня и властно потянула к себе. Я окунулся с головой, хлебнул воды и стал тонуть. Подбежал папка, решительно по пояс забрёл в воду и схватил меня за плечо.
На берегу он расхохотался. Я же плакал об упущенном окуне, даже ревел и, закоченевший, барабанил зубами.
– Эх ты, рыбак! Разводи костёр, будем сушиться… раззява-козява!
Вечером, при ещё блистающем зарёю небе, папка прилёг на траву почитать. Когда он читал, то становился каким-то неподражаемо важным: как у жука шевелились его усы, если он трубочкой вытягивал губы, словно бы намереваясь свистнуть, постукивал своими толстыми желтоватыми, точно когти крупного животного, ногтями, энергично и жутко двигал бровями. Иногда вскакивал и бродил взад-вперёд.
Рдяное солнце выдохнуло последние лучи и схоронилось за лесом. По земле покрался сумрак. Снежно-белые облака застыли над потемневшими сопками и холмами, будто выбрали себе уголок для ночлега и вот-вот опадут, как снег, на землю. Густые индиговые тенёты хозяйски возлегли на ангарскую воду и, мне казалось, замедлили, если вовсе не застопорили, течение этой великой реки. Сосны, представилось, насупились, а берёзы как бы сжались. Всё живое и неживое ждало ночи. Я, раскинувшись на фуфайке, прислушивался к звукам: «Кр-й-ак… Цвирьк… З-з-з-з-з-з… Ку-ку… Ка-ар-р!.. Пьи-пьи…»
Под это нежное тоненькое «пьи» мне представляется, что какую-то прекрасную сказочную птицу ведьма посадила в клетку и мучает жаждой. Я воображаю, как пробираюсь сквозь колючие дебри и несу в кружке воду. На меня, спрыгнув с лохматой ели, на суку которой висела клетка с маленькой птицей, набросилась похожая на корягу ведьма с чудовищными зелёными глазищами. Вдруг в моих руках появился, ослепительно заблистав, меч. Я сразил ведьму, но обе её половины обратились в двух ведьм. Я разрубаю и их. Однако на меня уже наскакивает четыре ведьмы. Я размахиваю, размахиваю мечом, но нечистой силы становится больше и больше. Ведьмы лязгают зубами. Я устал. Скоро упаду. Упал. Ведьмы тьмой надвигаются на меня. Неожиданно возле моей головы вырос крупный одуванчик.
– Сорви меня, – промолвил он, – и сдуй на ведьм.
Я сорвал, дунул и – округа стала лазоревой и словно бы пушистой. Ведьмы подкошенно повалились и обратились в скелеты; а скелеты сразу покрылись пышными цветами. Я снял с ели клетку и открыл её. Птица вылетела и – превратилась в маленькую, одетую в великолепное кружевное платье девочку.
– Спасибо, Серёжа! Я – фея. Ведьма похитила меня у моих родителей, превратила в птицу и посадила в волшебную клетку за то, что я всем делала добро. Я маленькая, и моё волшебство слабее ведьминого. Я не могла с ней сама справиться, но своим волшебством помогла тебе. В благодарность – дарю тебе флейту! Когда что-нибудь захочешь, подуй в неё, и я прибуду и исполню любое, но только благородное, твоё желание. А теперь – прощай!
Лес со скрежетом расступился, и к моей фее подплыло облако-карета. Она помахала мне рукой и растаяла в лазурном сиянии.
Подмигивали мне, как своему знакомому или просто по доброте, звёзды. Я испытывал смутную тревогу и робость перед величием чёрного, сверкающего неба. Возле моих ног потрескивал костёр. Изжелта-оранжевые бороды пламени танцевали по изломам коряги. Дым иногда кидался в мою сторону, и я торопливо шептал:
– Дым, я масла не ем, дым, я масла не ем… – И отмахивался. Но он всё равно приставал, как бы желая досадить мне или не веря, что я масла не ем. На раскалённых рдяных углях я пёк картошку.
Папка, начитавшись и поставив закидушки и удочки, спал, с молодецким храпом и присвистом. Засыпал он, помню, моментально: стоило ему прилечь – и уже давай пускать мелодичные ноты. А мне вот не везёт и не везло со сном.
Возле берега шумно и дразняще всплёскивала рыба, – моё сердце вздрагивало, и хотелось пойти к удочкам и закидушкам, но боязно было уходить в темень от костра и папки. С реки обдавало прохладой. Где-то тревожно заржала лошадь. Ей ответила только лишь ворона, хрипло и сонливо, – видимо, выразила неудовольствие, что её посмели разбудить. Я пугливо кутался в ватную фуфайку и подглядывал через щёлку, которую потихоньку расширял. В воздухе плавал тёплый, но бодрящий запах луговых цветов, слегка горчил он смолистой корой и полынью. Но когда ветер менял направление, всецело господствовал в мире один, пахучий, наполненный тайнами вязких, дремучих глубин запах – запах камышовых, цветущих озёр.
На той стороне Ангары, на самом дне ночи, трепетал костёр. Я вообразил, что там разбойники делят награбленное. Рядом хрустнуло – я весь сжался в комочек. Мне почудился вороватый шорох. В волосах шевельнулся страх. Неподалеку вонзилось в ночь громозвучное карканье. Я, наверное, позеленел. Дрожащей рукой слепо поискал папку, наткнулся на его шевелящиеся губы и сыроватую лохматинку усов. Он что-то проурчал и повернулся на другой бок.
– Папка, – чуть дыша и пригибаясь, шепнул я.
– Мэ-э? – не совсем проснулся он.
– М-мне с-страшно.
– Ложись возле меня и спи-и… а-а-а! – широко и с хрустом зевнул он.
Папка снова стал храпеть. Я крепко прижался к его твёрдой спине и старался думать о чём-нибудь приятном.
Проснулся, потому что жутко знобило моё скрюченное тело. Лежал один возле потухшего костра; папки не было рядом. Пахло сыроватой золой и землёй. Округа была напоена до краёв росной, морозцеватой свежестью. На Ангару наседала туманная мгла. Солнце ещё не взошло, а мне так захотелось его лучей и тепла! Отчего-то подумал и испугался: а вдруг солнце не взойдёт, не продерётся через туман. На середине реки, на затопленном острове, стояли – очевидно умирая – согнувшиеся берёзы, и мне стало жалко их. Но я не в силах был долго оставаться с каким-либо грустным чувством, в своём несчастном зябком состоянии. Где-то на озёрах вскрякнули – показалось мне, что призывно и приветно, – утки, и я пошёл на их голоса. Узкую скользкую тропку прятали разлапистыми листами обсеянные росой папоротники и тонкие, но упругие ветки густо заселившего лес багульника. Косматая трава хватала мои мокрые сапоги, как бы не пускала меня и охраняла какую-то тайну, которая находилась впереди.
Озёр было много; они скрывались за пригорками. Сначала я брёл по болотной грязи, из неё торчали патлатые, заросшие дикотравом кочки. Потом ступил в воду. Она боязливо вздрогнула от моего первого шага и побежала воздушными волнами к уже раскрывшимся лилиям, – быть может, предупреждая их об опасности. Мне хотелось потрогать их, понюхать, да они находились, где глубоко.
Невдалеке тихонько вскрякнула утка. Я притаился за камышами. Из-за низко склонившейся над водой вербы выплыла с важностью, но и с явной настороженностью исчерна-серая с полукружьем рябоватых перьев на груди утка, а за ней – гурьба жёлтых, канареечных, даже золотистых утят-пуховичков.
Из камышей величаво выплыла ещё одна утка. Она была чернее первой и крупнее. Её голова – впрочем, такой же она была и у первой – имела грушевидную форму, и создавалось впечатление надутых щёк, словно она сердитая, важная чрезмерно. Почти на самом её затылке топорщился редкий хохолок, а блестяще-чёрная маковка походила на проплешину. Меня смешил в утках широкий лыжевидный клюв, который у второй к тому же был задиристо приподнят. Вид этой утки ясно заявлял: «Я не утка, я – орёл». «Наверно, – подумал я с согревающей меня нежностью, – утка – папка этих утят, а их мама – его жена. Он поплыл добывать корм, а она их охраняет и прогуливает».
Утка-«папка» выплыла на середину озера и – внезапно исчезла, как испарилась. Я протёр глаза. Точно, её нет. Но немного погодя понял, что она нырнула; не появлялась с минуту. Я стал беспокоиться – не утонула ли. Но утка, уже в другом месте, как поплавок, выпрыгнула из воды, побудив волны и держа что-то в клюве.
Я порылся в карманах, нашёл хлеб, две конфеты, хотел было кинуть уткам, как вдруг воздух шибануло страшным грохотом, будто саданули по пустой железной бочке. Я вздрогнул, сжался и зажмурился. Замершее сердце ударилось в грудь. Открыл глаза – хлесталась крыльями о воду, вспенивая её, утка-«папка», пытаясь взлететь. И, видимо, взлетела бы, но прокатился громом ещё один выстрел, – теперь я уже понял, что стреляли из ружья. Утка покорно распростёрлась на хлопьях кровавой пены. Утята куда-то сразу спрятались.
Из кустов вылетела крупная встрёпанная псина, с брызгами погрузилась в воду, жадно и шумно ринулась к убитой утке. На поляну вышел сутулый, дюжий дядька, деловито сплюнул, почесал шею, неторопливо закурил.
Назад я брёл медленно, запинаясь, потупив голову. Потом этот дядька пришёл к папке, к нашему костру, на котором закипал котелок с ухой; оказалось, они вместе работали. Сидели на берегу, хлебали уху, выпивали, энергично, громко разговаривая, что-то друг другу доказывая. Я не слушал их, жался сторонкой на камне у самой воды. Я не мог понять, как папка может сидеть вместе с человеком, который убил утку. Подумалось, что мой отец тоже такой же нехороший, скверный человек, но я устрашился этой мысли.
В моё лицо взбрызнуло лучистыми проблесками наконец-то взошедшее солнце. Я крепко зажмурился и тотчас почуял на губах солоноватую, чуть горчащую тёплую водицу. Солнце, кажется, впервые, не порадовало меня.