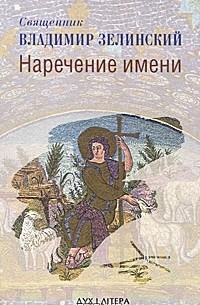Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
III
Церковь, по слову преп. Максима Исповедника, «будучи образом Первообраза, совершает относительно нас действия, подобные делам Божиим» («Мистагогия»). Бог, как мы верим, знает и помнит чад Своих. И потому православное богослужение всегда творит и совершает чью-то память, и в этой связи с нею, иной раз и связанностью ею – глубочайший его корень, который должен прорасти в вере каждого. Наследие памяти – как тот талант, который, если мы пускаем его в дело, обладает свойством расти и умножаться.
Умножение памяти, конечно, не сводится только к накоплению знаний, которые в ней хранятся. Оно означает прежде всего умножение любви, овладевающей нашей чувствующей и мыслящей природой. Первая заповедь Божия (см. Мф 22:37). исполняется тогда, когда она заполняет весь внутренний «объем» нашего существа и утверждается в нем. Любовь призвана быть сознательной и бессознательной, явной и прикровенной, то есть она должна исходить не только из того, что мыслится нами, но и из того, что остается в нас сокрытым.
Почему то, что называется «бессознательным», должны мы безропотно отдавать в хозяйство занудно навязчивого венского доктора, словно бы до него никто ничего не ведал об этом материке внутри нас? «Бессознательное» – не только загон для зверей, грызущих прутья своих клеток, но – на уровне более глубоком – последнее убежище человека, каким он был некогда задуман и создан и каким невидимо остается до сих пор под спудом личной и родовой греховности. Ибо на самой глубине бурлящего подполья можно найти то сокровище, к которому, по слову Господа, должно прилепиться наше сердце (см. Лк 12:34); здесь сокрыт тот неожиданный покой, проистекающий из изначально посланной нам, поистине райской способности возлюбить Господа. Любовь – это всегда дар, собирающий воедино все наше существо, она как бы ведет нас от Бога, Которого, не зная, мы чтим, к Богу нашего исповедания, нашего разума, нашего самосознания и тем самым нашей Церкви. Но именно здесь, в сокрытом, неопознанном, но согретом любовью Божией нашем я, по большей части завязывается и накапливается то личное наследие веры, что живет в нас и передается другим. Но при этом никакое прошлое, бросившее в нас свой якорь, не лежит готовым и распластанным на поверхности сознания. Оно имеет множество уровней, и невидимая его часть всегда больше осознанной, освоенной разумом, уложенной в память и готовой в любую минуту подняться к дневному свету. На этой части как раз и держится живучесть и внутренняя укорененность православия, где глубинная, скрытая от наших глаз память о Боге, что передается врод ирод (см. Пс 101:13), не менее важна, чем усвоенная, исповедальная ее сторона.
Подтверждений тому так много, что их можно найти повсюду. Если посмотреть со стороны на опыт православных подвижников, то на первый взгляд покажется, что они прожили свою жизнь в каком-то непрестанном безумии самообличения. Но таким это безумие представляется лишь для нас, эллинов (см. 1 Кор 1:23), коим доступно только поверхностное, лежащее перед глазами различение добра и зла. Тот, кто захотел бы понять их, должен отточить в себе новое зрение, способное заглянуть в сердце монаха или пустынника, проводившего жизнь в этом исступлении покаяния. Нужен особый слух, чтобы услышать то, что скрывается за опытом аскетики, истязаний плоти, сердечного плача, сокрушения о бесчисленных, но никем не видимых грехах. Со святыми мы исповедуем одну веру, но различие между нами в том, что у нас она занимает поверхность сознания и сводится к «убеждениям» и «переживаниям», тогда как у них эта вера пронизывает всю толщу бессознательного, всю внутреннюю, сердечную «крепость» их, проливая свет на то, что обыкновенному зрению остается недоступным. Но именно невидимое, не осязаемое мыслью определяет внутренний облик святого. Сокрытое я словно выступает из темноты, пронизанное взглядом Божиим.
Дивно для меня ведение Твое… (Пс 138:6). Бл. Феодорит Кирский, комментируя эти слова, говорит: «Обращенный ко мне, ставший мне близким, Ты пожелал погрузить меня в созерцание моей природы. Размышляя об этом, думая о гармонии между смертной и бессмертной природой, я покоряюсь такому чуду. Не будучи в силах созерцать эту тайну, признаю свое поражение; более того, провозглашаю победу всеведения Творца, пою хвалу Ему, восклицая: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». (4-ая беседа о Промысле).
Не могу постигнуть ведения Творца, но покоряюсь ему, и в этом ведении мое я становится ведомым и ведомым. Церковь указывает каждому из ее чад путь к такому ведению своего я, ибо вся ее повседневная практика направлена прежде всего на то, чтобы светом готовой, унаследованной и как бы «даровой» веры пронизать и наполнить ту глубинную часть его, до которой обычно не добирается разум. Овладеть такой глубиной дано не нам, но Всеведущему и Незримому. Мы же можем лишь пробиваться к свету Его из темного нашего я – «в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, и предприятий, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов…» (молитва св. Иоанна Златоуста из последования ко св. Причащению). Разве не тому ли служит и тот молитвенный труд, который предлагается нам понести, весь тот сложный, продуманный строй нашей литургической жизни, из которого после долгих, непрерывных усилий, из неподатливого, упрямого, илистого человеческого материала мог бы потом родиться сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа (1 Пет 3:4)? Словно нам надлежит приготовить путь Господу, по которому Христос мог бы сойти в ад того «бессознательного», которое мы несем в себе, дабы вывести оттуда плененного Адама.
Мудрость молитвенной культуры – в видении всего внутреннего объема человека до самого его укрытого дна, где поистине «хаос шевелится». Такое видение, надо сказать, все более стирается или скорее как-то отодвигается у западных наших собратьев, отменяющих хаос разумом и «естественным законом», забывающих о «темных и лукавых духах» и главным измерением своей веры оставляющих лишь этику, послушание Слову, выполнение долга деятельной любви к ближним. Рядом с такой, крепко стоящей на земле верой, построенной на повиновении призванию и однажды принятому решению, осознанной воле, внутреннему императиву (не вижу здесь никаких мотивов, почему над всем этим нужно превозноситься), каким же неизмеримым ведением о человеке обладает православие! Сколько же «невидимых браней» и драм, заглядываний в бездну, сошествий во ад и «восхищений до неба» несет оно в себе! Но вместе с тем все это достояние Духа на земле хранится, по правде сказать, иногда без должного присмотра. Часто кажется, что оно остается неохраненным, неогражденным дисциплиной срединной этики, положившимся лишь на то, что Дух воздыханиями неизреченными защитит его от любых вторжений и посягательств. В том числе и со стороны потаенного нашего я. Так оно и бывает, действительно, но лишь у натур крепко собранных, сосредоточенных всецело на стяжании «ведения» Господня в себе. Дух, если и защищает и хранит нашу веру, память и саму личность, действует в согласии с нашей волей, верный тому, что должно быть сохранено. Ибо человеческое лукавство тоже разведало дорогу в хранилище веры. И нередко оно пробирается туда под видом чуть ли не ангела с неба, чтобы расхитить Предание, но чаще для того, чтобы бренное наше добро из земных «житниц» присвоить себе, спрятав понадежнее и получше и выдавая его за сокровище на небесах