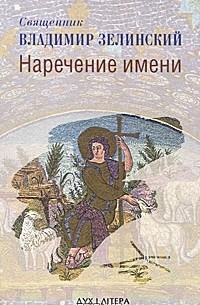Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Я», вошедшее в нас
«Постепенно за столетия успокоенного христианства, – говорит митрополит Антоний Сурожский, – у нас сложилось представление о вере, которое не соответствует ее существу, вера – не мировоззрение. Есть мировоззрение, которое соответствует вере, но сама вера – не система понятий». Сегодня это очевидно для всех, как очевидно и то, что вера, едва родившись, ищет и находит убежище в рефлексиях о себе самой и нередко предпочитает зарыться в готовую систему, а иной раз даже почти заменить себя ею. Едва появившись на свет, она, словно следуя инстинкту выживания, начинает укутывать себя в понятия, а затем в тяжелые идейные доспехи отчасти для того, чтобы отстоять себя перед другими верами, как и в особые религиозные чувства, чтобы стать понятной для самой себя. Разумеется, вера, которая, по слову апостола, есть вещей обличение невидимых (Евр 11:1), не только вправе, но и обязана эти открывшиеся ей вещи не только обличать, то есть наделять ликом (смыслом, словом, понятием, образом), но и выносить обличенное и облаченное ею на свет, то есть делать достоянием разума, которому причастны и другие. Однако эта взрослая, общинная вера не должна терять связи со своим первичным, хотя и ускользающим от сознания истоком, ибо на нем запечатлевается икона Бога Живого, открывающего Себя во всем многообразии общения. И поскольку общение никогда не прекращается, то и зачатие веры в нас столь же естественно, как рост и развитие всякого живущего организма. Вера развивается из того слышания, которое помогает за звучанием множества вещей различить единый Голос, за множеством мелькающих ликов – единый Лик. Семена контактов, эмбрионы восприятий возникают и развиваются в нас постоянно, хотя лишь очень малому количеству их удается привиться и вырасти. Здесь оказывается необходимой система понятий, она – как ствол, по которому жизненные соки могут подняться из земли.
Эти соки неведомой земли, на которой мы когда-то стояли, питают наш слух, и мы обращаем его к Кому-то, Кого неожиданно ощущаем рядом с нами. Мы тянемся к Нему всем сердцем… всей крепостью, потому что наше существование, помним ли мы о том или нет, уже наполнено общением с Ним. Мы узнаем Его по взгляду, который покоится на нас, по любви, прикосновения которой замечаем повсюду, часто вопреки всякой очевидности. Угадываем Его по той полноте существования, которая исходит от Него. И вот в какой-то момент мы решаемся просто довериться этой полноте, дать ей раскрыться в нас. Тогда присутствие или существование этого Голоса и Лица мы принимаем на веру, отказываемся спорить с ним от имени внушенной нам системы подозрений, вручаем себя тому таинству общения или чуду родства, которое где-то творится в нас. Из таинства возникает уверенность, что Тот, с Кем мы общаемся, остается с нами, над нами и в нас.
Яко с нами Бог! – разгадка веры начинается с простого радостного доверия, которое вложено в нас изначально. Оно столь естественно, что его привычно называют безотчетным. У нас нет сомнений, что другие вещи существуют, мы доверяем скрытой или явленной их красоте (или отталкиваемся от их уродства), мы открываем себя для доброты чужого сердца, полагаемся на обещание тех, кого мы любим, наконец находим опору в самих себе. И, доверяясь, вступаем в родство с ними, ибо вне такого родственного общения мы не могли бы существовать. И вот этот изначальный опыт доверия, возникающий из многообразия и переплетения связей с «объемлющим» нас океаном, служит основой просыпающейся веры.
Однако слово «опыт» способно ввести в заблуждение. Есть люди, которые часто ссылаются на свой особый «религиозный опыт», другие – на отсутствие подобного опыта. Но если спонтанное доверие в каком-то смысле предшествует осознанию опыта, если оно есть часть самого существования нашего, то такой же подспудной частью ее остается и вера. Открывая глаза, она пробуждает все, что нас окружает, начинает звенеть «колокольчиками» живущих в нас окликов. Она проливает свет на то, что почти всегда остается в тени. Подобный опыт – не новость, он описан уже в Священном Писании.
Апостол Павел говорит, что о Боге можно узнать из всего того, что нас окружает, ибо невидимое Его, – как читаем мы в Послании к Римлянам, – вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы (1:20). Чтобы увидеть по-настоящему всякую вещь, надо уметь найти в ней то, что невидимо, что сокрыто и несет на себе отблеск славы Господней. Слова через рассматривание творений (τοις ποιήμασιν νοούμενα), если брать Синодальный перевод, не есть ли в данном случае одно из имен общения? Мало кто берется рассматривать вещи только ради того, чтобы постичь в них невидимое, но невидимое открывается само. Оно делает первый шаг навстречу, нам остается лишь повернуться лицом к тому что мы видим. И тогда вещи начинают «тайно светить» своей несокрытостью, явленностью, райской наготой. Ибо в основе языка искусства (не говорили ли мы о том ранее?) лежит то же первоначальное доверие к лицам вещей, на котором держится и верующее знание. Оно – сродни тому «тихому свету», которым Автор вещей изначально облек их. И, сообщив им Свой свет, Он так устроил человека, чтобы тот мог увидеть, рассмотреть их, принять в глубину своего существа. Когда мы воспринимаем «незримое очами» в творении, их невидимое становится зримым, открывая нас для общения со светом и с Лицом, стоящим за светом. Свет обнажает «наготу» вещей, сокровенную их суть и так добирается до последней наготы нашей тварности, которая есть доверие, а если взглянуть еще глубже – любовь.
Если дружество есть основа познания вещей, то любовь, и только она, выносит на свет познание самого познания, из которого рождается вера. Отбросим все, что может скрываться за определением веры, сосредоточимся лишь на том открытии, которое любовь совершает в нас и как бы вместо нас. Прислушаемся к неожиданно меткому (в познавательном смысле), хотя вовсе не столь уж и «дружественному» определению любви в одном из последних «Стихотворений в прозе» Тургенева.
Все говорят: любовь – самое высокое, самое неземное чувство. Чужое я внедрилось в твое: ты расширился – и ты нарушен; ты только теперь зажил и твое я умерщвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть… Воскресают одни бессмертные боги…
Конечно, любовь как игра плоти и крови часто наваждением вторгается без спроса и может восприниматься как сила, враждебная нам, и мы хотим защитить от нее свое потревоженное я, охраняемое как некая собственность. Любовь, как все знают, может быть своего рода болезнью души, но суть ее уловлена здесь с субстанциональной точностью, хотя – если мы отнесем ее определение к Богу – уловлена с «точностью до наоборот». Чужое Я входит в нас, и лишь тогда мы становимся вполне, до последней, до божественной глубины самими собой. Мы умираем для самих себя, полагаем (грешную) душу свою и тем самым оживаем, для многого слепнем и обретаем способность иного видения. И уже не я живу, но живет во мне Христос, – восклицает апостол (Гал 2:20), и слова эти можно услышать и как исходное философское исповедание онтологической мудрости и субстанции веры. И.Я Христово, которое входит в нас, не только не враждебно нашему малому, падшему я, но, напротив, позволяет ему распрямиться, осознать себя в полной мере, дает ему узреть себя в божественном Ты и обратиться к Нему.
Бывает, что это Ты проявляется в нашем существовании, а затем и в сознании раньше, чем мы узнаем Его имя. Опыт такого узнавания, видения другого Я, заявляющий о себе в общающихся с нами предметах, доступен всякому, в том числе и слепому от рождения. Незримый, обжигающий свет этого «Я-любви» не обязательно нуждается в «телесных очах», которые всегда могут быть иноплеменными, то есть духовно слепыми. Но он позволяет увидеть первоначальную гармонию мира, тайную славу его. Всякое творение способно поделиться своим светом, если мы сумеем увидеть его в Боге и в Боге полюбить. Бескорыстная любовь, которая научает людей по-настоящему видеть друг друга, угадывая в каждом небывалое чудо, уже несет в себе начало того опыта, который мы называем духовным. В этом опыте каждая вещь, каждое человеческое лицо словно отдает нам частичку скрытого в них света.
И он входит в нас и становится доступным и неоспоримым изнутри.