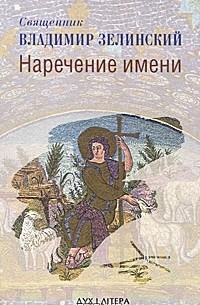Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Таинство общения
«Она еще не родилась…»
Когда мы заговариваем о вере, то обычно сразу переходим к ее содержанию. Мы знаем, что вера содержит в себе тайну, но тайна непроницаема, неощутима, как душа во плоти; мы же можем прикоснуться лишь к видимой «плоти» веры, пытаясь передать ее суть. Собираясь рассказать о ней, мы начинаем излагать то, во что веруем, предоставляя вместо нас говорить коллективному разуму и вековой традиции, которые пришли к нам готовыми и принесли на ладонях религию и выстроенную ею картину мира. Однако чаще всего религиозная наша речь находит для себя сочувствующих, слышащих, когда обращена лишь к «своим». За пределом круга единоверцев рассуждение о вере теряет почву под ногами, становится отвлеченным, отсеченным от того, что было нами унаследовано, осмыслено, пережито. Тайна теряет свои очертания и тает, собеседники-агностики перестают понимать нас, а если что и слышат, то перетолковывают на иной лад. Мы оказываемся неспособны поделиться с ними своим слухом, научить их ориентироваться в лесу символов, по которым так легко находим путь домой, к «отечеству внутри нас», тогда как для других этот лес остается сухим, безжизненным, подчас и враждебным.
Едва за пределами храма мы произносим первые слова Символа веры: «Верую во Единого Бога Отца…», нас тотчас спрашивают: «Но где Он, ваш Отец?». – «Но разве не очевидно, – спрашиваем мы в ответ, – что Бог присутствует во всем творении, обнаруживает Себя повсюду?» – «Чем конкретно вы это докажете?» Чем конкретно… действительно, чем? Все доказательства веры, о которых мы знаем, могут быть убедительны только тогда, когда мы хоть в какой-то мере уже находимся внутри их логики сердца, созданного ими «свидетельства души» (Тертуллиан), принимаем их язык. Все «аксиомы религиозного опыта» (Ив. Ильин) – а они всегда бывают гораздо богаче, чем доказательства от разума – выглядят неопровержимыми лишь тогда, когда они уже породнились с выношенными ими истинами. Очевидно, что любая наша речь о Едином Боге чаще всего уже предопределена каким-то сложившимся вероучительным знанием о Нем, если не готовым мировоззренческим устроением. Однако всякое мировоззрение, едва вылившись в устойчивые формы, чтобы утвердить себя, непременно должно вступать в спор с другим, тем, что как-то от него отличается и ему противостоит, отстаивает иную истину, следует иной логике, связано с иным словарем и «душевным обеспечением», обладающими внутренней своей неоспоримостью.
Можем ли мы сказать что-либо о вере еще до того, как она вошла в рамки религиозного мировоззрения и вступила в спор с другими? Бывает ли знание, которое еще не выпало в осадок из предварявшего его существования, не окостенело в потоке восприятий, не отвердело на поверхности того ручейка Бытия, который пронизывает нас? Однако и по тому, что кристаллизуется и откладывается в мышлении, становится словом, идеей, убеждением, мы можем судить или лишь догадываться о безмерности источника, вынесшего его к нам. «Как океан объемлет шар земной….», так омывает он и все наше существо, обладающее свойством из хаотических, текучих, но часто повторяющихся элементов структурировать «молекулы» опыта. Затем они складываются в кристаллы и твердеют в памяти, внедряясь столь глубоко, что становятся едины с нами, сливаются с нашим я. Разумеется, структурирующая способность нашего мозга, какой бы мощной она ни была, справляется лишь с очень небольшим объемом посылаемых нам знаний, нужных прежде всего для выживания и утверждения себя в том, что мы называем «миром», то есть временем и пространством, обжитым, освоенным, охваченным человеческим видением. Однако есть в нас если не ясное знание, то какая-то осведомленность о том, что «мир» бесконечно объемней и пространней того, который воспринимается обычными органами чувств, и все мы в той или иной степени живем в интимном, то есть не выговариваемом, не исповедуемом словами, не передаваемом ни знаками, ни звуками разговоре с этим миром.
Дабы не заниматься больше «химией» аналогий, возьмем предмет более доступный: произведение словесного искусства. Собственно искусство, когда оно появляется на свет (и пока еще никто не определил до конца, как и когда), заключается в созидании образных тканей, соединяющих внешний, предстоящий нам мир и тот, который нас «объемлет», омывает и откладывается в нас. Родина искусства – бесконечное переплетение связей, каждая из которых хочет заявить и рассказать о себе через нас, сложиться в знание, то есть стать частью нашего видимого, слышимого, человеческого существования. Даже тогда, когда это касается ударяющейся о нас и одаряющей нас словами невыговариваемой стихии мира. Эта основа, в которой еще неразличима интонация («звуковые волны» у Блока), образ и смысл. К ней прислушивался Мандельштам, когда в начале своего пути стал задумываться о ремесле поэта:
Она еще не родилась,
Она – и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Напряженное вслушивание как бы приглушает голос, человеческая речь кажется намеренно притихшей, словно боящейся вторгнуться в невнятное, но неоспоримое звучание Всеобъемлющего, касающегося нашего слуха. Поэт чувствует, что всякое «замерзание» в слове становится неуловимым предательством этого живого, жаркого, звучащего океана и предпочитает, если не погружаться в него и не забываться в нем, как любят делать другие («И сладко мне тонуть в этом море», – писал Леопарди), то, по крайней мере, не принимать его отчужденных, вторичных даров, теряющих жизнь и цвет и первоначальное звучание в нашей обмирщенной речи.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту
Что от рождения чиста!
Останься пеной Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
Но сколько бы ни стыдилось сердце и как бы ни тосковало о «первооснове жизни», ему не вернуться к ее «кристаллической» до-словесной немоте. Но сама первооснова то и дело подступает к нам и говорит отовсюду. Океан окатывает нас своими волнами и после каждого прилива оставляет на нас свои диковинные травы и раковины, свои умолкшие звуковые следы. У нас нет защиты от них.
И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шопотами пены,
Туманом, ветром и дождем…
С шепотом пены мы уходим в освоенную, охваченную крепкими берегами жизнь с ее делами, расчетами, обязанностями, но те травы, которые спят вокруг нас, вдруг просыпаются и как-то пытаются нас задержать или окликнуть.
И, спускаясь по камням ограды,
Я нарушил цветов забытье.
Их шипы, точно руки из сада.
Уцепились за платье мое.
О том же говорит и Марина Цветаева, но прямее, жестче, чем Блок:
Что нужно кусту – от меня?
Имущему – от неимущей!
Потому что разговор с тем, что окликает, цепляется, врезается в наше зрение, вовсе не всегда подстраивается под тон почтительного или мягко лирического удивления. Тему задаем мы сами. Иногда мы резко отбрасываем то, что подбирается к нам как бы с потаенного хода, ставим на место (выбранное нами, определенное по отношению к сложившемуся нашему я, часто не находящему места в самом себе). Предметы ищут разговора с нами, но мы, бывает, и огрызаемся, отделываемся от них как от навязчивых нищих, хотя иногда предаем эту беседу гласности, чтобы дать выговориться овладевшей нами вещи, пусть даже встреча с ней менее всего желанна. Как, скажем, отповедь опавшему и мерзлому дереву у Иосифа Бродского:
Бессмысленное, злобное, зимой безлиственное, стадии угля достигнувшее колером, самой природой предназначенное для отчаянья, – которого объем никак не калькулируется, – но в слепом повиновении своем уже переборщившее, оно,
ушедшее корнями в перегной из собственных же листьев и во тьму-
вершиною, стоит передо мной,
как символ всепогодности, к чему никто не призывал нас.
Перед нами резкое выталкивание запечатленного образа, возможно, что и вытесненное полупризнание в любви, которое было поэтом же и отвергнуто. Никто не призывал нас вглядываться в безлиственное дерево, кроме самого дерева. Но даже отвергаемая любовь, перерастающая во вражду, становится особым образом общения и познания. Страсть раскрывает суть, наделяет языком. Кусты, цветы, деревья, раковины, звезды, лица, которые выносятся к нам из океана «первоначальной немоты», суть не что иное, как виды первоначального знания, которое мы в себе сложили, восприняв извне, открыв для него слух, память, зрение, пусть даже для того, чтобы вытолкнуть эти образы из себя. Мы восприняли эти образы из расплавленного и текущего материала, и поэтическая речь в данном случае может служить моделью всякой другой структурирующей речи, собирающей текучий опыт в твердый смысл. Ибо то, что мы называем «знанием», есть прежде всего отвердевающая в нас структура контакта, кристаллизация общения, которое может пониматься предельно широко. Земля и небо, «музыка-слово», раковина, собирающая в себя звуки, как и все разнообразие явлений и понятий, вступают в контакт с нами, и мы, как существа деятельные, наделенные волей и способные навязывать ее окружающему нас миру устанавливаем законы, рамки и способы этого общения. Поэзия и наука, философия и музыка, этика и мистика – все это виды знания, родившиеся из взаимодействия с «видимым же всем и невидимым», которое откладывалось в собирательной памяти, состоящей из множества сообщающихся сосудов. Но если процесс изготовления точных, овладевающих миром знаний идет все быстрее и быстрее, то подобное ускорение не касается человеческих интуиции или прозрений, ни вообще сущностных знаний человека о себе самом. Ибо человек осмысливает самого себя, исходя из того, что остается не осязаемым для его мысли.
Подобно тому, как ни одно растение еще не раскрыло секрета жизненной силы земли, так и ни одному произведению искусства не удавалось еще выразить глубину невыразимого, вблизи которого живут души святых, поэтов и философов.
Чтобы приблизиться к этой глубине, ее надо не только почувствовать (догадываются и по-своему чувствуют все), но, увидев, сознательно выбрать. Всякий художник, каждый на свой лад, обладает лишь большим доверием к своему слуху и превосходящей нас смелостью восприятия услышанного и увиденного. И тогда созерцание любой вещи, даже и неживой (скажем, концентрация взгляда на мертвой бабочке у Бродского), может привести нас к открытию Божия помышления о ней.
Жива, мертва ли –
но каждой Божьей твари как знак родства дарован голос для общенья пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.