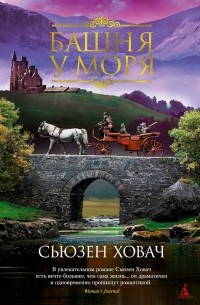Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 6
«Порой я думаю, что весна никогда не наступит», – писала Маргарет, и внезапно это предложение, которое она повторяла всю зиму, показалось пустым и холодным. Я перечитывал письмо снова и снова и с каждым разом все больше убеждался, что за этими осторожными строками кроются тревоги, которые она не решается открыть мне. Она написала письмо в феврале, через шесть месяцев после нашего расставания, и писала так, будто не могла толком вспомнить, кто я.
К этому времени я уже вернулся в Лондон. Перед отъездом из Кашельмары я отправил Дерри к его дальним родственникам и велел ему оставаться там, пока я не подготовлю его путешествие в Германию. Что касается Патрика, то я решил с началом нового семестра отправить его в Итон. Мне когда-то сказали, что в этой школе предпочитают мальчиков, не имеющих особых амбиций, и я надеялся, что Патрику будет легче освоиться там, чем в Рагби. А сам тем временем опять был вынужден тратить время на руководство его занятиями, но, хотя из-за этого мне пришлось свернуть часть моей деятельности в Вестминстере, я испытал облегчение; все вопросы там снова вращались вокруг парламентской реформы – предмета, далекого от моих интересов к сельскому хозяйству. Что же касается внешней политики, то она сводилась лишь к романтическому, но непрактичному одобрению объединения Италии в сочетании с истерической франкофобией. Маргарет спрашивала меня в своем письме, что говорят в Англии об американском кризисе. Я не мог написать ей, что, несмотря на летнюю передышку, люди в Англии все еще настолько боятся воинственной Франции, которая опять победным маршем пройдет по всей Европе, что и внимания не обратили бы, исчезни вдруг Америка с лица земли.
Даже та часть письма Маргарет, что была посвящена политике, казалась мне необычной. Она словно следовала рекомендациям наставлений по переписке, о презрении к которым объявила раньше, а свободный, яркий стиль ее первых писем, в которых она ловко перепрыгивала с одной темы на другую, исчез под свинцовым грузом формальностей.
В апреле, неделю спустя после получения этого тревожного письма, у меня был день рождения. К счастью, никто об этом не вспомнил. Я провел день, занимая себя различными делами, но вечером, когда Патрик ушел в свою спальню, выпил несколько бокалов портвейна и впервые за много недель уснул, едва моя голова коснулась подушки.
На следующее утро я стыдил себя за слабость и, приняв лекарственных солей от головной боли, попытался настроиться на рациональный образ мышления. Даже если Маргарет больше не хочет выходить за меня замуж, нет никаких оснований не наслаждаться ее обществом во время ее визита в Англию. Почему мы не можем оставаться на дружеской ноге? Я буду относиться к ней как к дочери. К тому же я сам настаивал на длительном периоде разделения, чтобы у каждого из нас была возможность отказаться от идеи брака. Я беспокоюсь о том, что Маргарет может передумать, но не исключено, что и я, увидев ее снова, тоже задумаюсь о правильности прежнего решения. Почему нет? Все возможно. Дьюнеден мог оказаться прав, говоря, что американская среда могла отрицательно повлиять на мои умственные способности, и хотя я исполнился уверенности, что Маргарет подходит мне, но, возможно, так спешил найти себе жену, что наделил ее выдуманными качествами.
И чем больше я себя убеждал, тем сильнее впадал в отчаяние, и наконец, будучи не в состоянии заниматься чем-либо, кроме как сидеть у окна в тупом безделье, я увидел, что на площади за окном на деревьях набухают почки и начинают распускаться нарциссы.
«Порой я думаю, что весна никогда не наступит», – время от времени писала мне Маргарет на протяжении этой бесконечной зимы, но весна наконец наступила, как наступала и всегда, и теперь меньше чем через шесть недель я снова загляну в ее глаза.
Я боялся этого дня.
Я, конечно, не делал никаких приготовлений к свадьбе. Это означало бы искушать судьбу. Даже не мог себя заставить говорить о Маргарет, боясь, что упоминание ее имени каким-то образом повредит нашему будущему, и на вежливый вопрос Дьюнедена о времени ее приезда лишь назвал ему дату и поспешил поменять тему. К счастью, дочери таких вопросов мне не задавали. Аннабель после ссоры со мной не общалась, а Катерин, хотя и писала почтительно каждый месяц из Санкт-Петербурга, ни разу не упомянула имени Маргарет. Что же касается Маделин, то я ничуть не удивился, когда больше не получил ни слова из монастыря, в котором дочь заточила себя. Хотя ни секунды не сомневался, что она каждый день вспоминает меня в своих молитвах.
Апрель закончился. Начался май. Полагая, что для Маргарет (особенно если она решила отказаться от наших договоренностей) будет проще, если они с Амелией остановятся в отеле, я заказал для них номер в отеле «Миварта» на Брук-стрит. Они будут путешествовать в одиночестве. Фрэнсис решил, что его дети слишком малы для такого дальнего путешествия через Атлантику, и, конечно, Бланш осталась с ним в Нью-Йорке.
В день, когда ожидалось прибытие парохода, я сел в поезд до Ливерпуля, зарезервировав для нас номера в отеле на ночь. Патрик к этому времени уже был в Итоне, а потому я в тот прохладный и дождливый весенний день, когда приехал в отель «Адельфи», оставался один, если не считать моего слугу.
Поезд вовремя прибыл на Лайм-стрит, и я, думая, что у меня есть еще как минимум три часа до встречи с моими гостями, неспешно поднимался по лестнице между великолепными колоннами в холл отеля, который, к моему удивлению, оказался забит людьми. Повсюду лежали груды багажа, и я, стоя в толпе, вдруг понял, что хотя люди близ меня и говорят по-английски, но делают они это с американским акцентом.
Сердце у меня екнуло, я протолкался сквозь толпу к стойке портье:
– Пароход из Нью-Йорка прибыл раньше времени?
– Да, сэр, он причалил два часа назад. Спокойное плавание, насколько мне известно. – Он вдруг узнал меня – я останавливался здесь по возвращении из Америки. – Ой, лорд де Салис! Извините меня, милорд, не сразу вас узнал! Я…
– Меня кто-нибудь спрашивал?
– Да, милорд. Конечно, милорд. Некто миссис и мисс Мариотт ждут в Королевской гостиной.
Вокруг меня шумно гудела толпа. Спустя какое-то время я понял, что мой слуга спрашивает, следует ли ему немедленно отнести багаж в мой номер.
Я кивнул. И даже не посмотрел на него. Я пребывал в такой панике, что едва мог ровно идти, а потом наконец, оказавшись на пороге того отказа, которого я так долго страшился, сумел спокойно сказать себе: в моей жизни случались вещи и похуже и не сомневаюсь, что вскоре приду в себя и после этого несчастья.
Отыскав в дальнем конце холла гостиную, названную не по чести, я вошел через огромную дверь в изящное помещение.
Она увидела меня раньше, чем я ее. В комнате было полно народа. Незнакомые лица, словно в тумане, мелькали передо мной, но я вдруг почувствовал движение – кто-то торопливо пробирался мимо людей и багажа к двери, у которой я замер в растерянности.
На ней была темно-синяя дорожная одежда и маленький темно-синий берет, а темно-голубые глаза горели на заостренном личике. Мне показалось, что Маргарет изменилась, а поскольку она не походила на ту девицу, которую я помнил, было трудно поверить, что это в самом деле она. На секунду я решил, что стал жертвой галлюцинации, но, когда увидел, как она побелела от испуга, реальность ее присутствия болью обожгла меня.
В этот миг меня волновало только одно – скрыть свою боль. Я должен быть очень добрым и понимающим, и нужно горячо заверить ее в том, что желаю ей только счастья.
– Эдвард…
Я услышал ее голос. У меня так защемило горло, что я чуть не начал задыхаться.
– Ах, Эдвард, Эдвард, я думала, весна никогда не наступит! – воскликнула она, и слова, которые я так часто читал в ее письмах, перестали быть мертвыми, теперь они зажили самой страстной жизнью. Я смотрел на нее, боясь это осознать, а она, испуганная моим молчанием и неподвижностью, отчаянно выдохнула: – Пожалуйста, скажите, что вы не передумали! Пожалуйста, пожалуйста, не передумали!
И я машинально потянулся к ней, а она бросилась в мои объятия.
– Ваши письма изменились! – Это говорила она, а не я. – Они стали такими холодными, так мало рассказывали мне о том, чем вы заняты. Ах, Эдвард, я так волновалась. Хотела спросить, не беспокоит ли вас что-нибудь, но не осмеливалась, а потом мне становилось все труднее и труднее находить слова для писем.
Я не хотел обременять ее моими заботами, но, даже не успев понять, что делаю, принялся рассказывать ей все, о чем не сообщал в письмах. Я поведал о моей ссоре с Аннабель, о моих мучениях с Патриком, о неприятностях в Кашельмаре, и все время я на самом деле говорил ей не о моих детях, не о моем доме, а о моем одиночестве, изоляции, о страхе, который наполнял меня, когда я думал, что останусь один.
– Теперь, по крайней мере, никто из нас не будет один, – заключила Маргарет. – Когда мы можем пожениться?
Я объяснил, что ей, возможно, понадобится какое-то время, чтобы приготовиться к многолюдной свадьбе, но она в ужасе покачала головой.
– Меня не интересует свадьба! – горячо возразила она. – Зачем нам мучиться долгие недели, устраивать грандиозное торжество, которое закончится ровно тем же, чем и маленькая церемония со священником и двумя свидетелями? Я хочу одного, Эдвард, – быть вашей женой, и что касается меня, то все остальное не имеет никакого значения.
Мы поженились пять недель спустя, двадцатого июня, в часовне Беркли в Мэйфейре. Церемония была скромная. Из моего ближайшего круга я выбрал тридцать гостей, а американский священник, с которым Маргарет познакомилась еще в Нью-Йорке, во время церемонии подвел ко мне невесту. Никого из моих детей не было. Естественно, я не ожидал, что Маделин покинет свой монастырь или Катерин вернется из Петербурга, но Аннабель отказалась ответить на мое приглашение, а Патрик собственным поведением исключил себя из списка гостей.
В конце мая, две недели спустя после приезда Маргарет, он убежал из Итона и спрятался в Вудхаммер-холле. Письмо дворецкого, сообщавшее мне о появлении Патрика, пришло ко мне через день после телеграммы от директора Итона.
Я не стал заниматься этим. Мое терпение лопнуло, и я слишком долго сдерживался по отношению к нему. Первым делом я попросил моего племянника Джорджа забрать Патрика из Вудхаммера и держать его в Леттертурк-Грандже до моего возвращения после медового месяца, потом я взял лист бумаги и написал Патрику, что о нем думаю.
«Мой дорогой Патрик, – писал я, – меня опечалило известие о твоей неспособности вести себя тем образом, который я мог бы назвать похвальным, и мне стыдно за твои непростительные поступки. И стыд мой тем глубже, что я был вынужден просить твоего кузена Джорджа сопроводить тебя в Ирландию и присматривать за тобой, пока я лично не получу возможность уделить тебе внимание. Прошу тебя, не предпринимай попыток убежать в Лондон на мою свадьбу; в сложившихся обстоятельствах я не смогу принять тебя, как должен принять сына отец на таком важном событии. Остаюсь твоим любящим, но разочарованным отцом. Де Салис».
Я не получил ответа от сына, но вскоре написал Джордж. Племянник сообщил, что выполнил мое распоряжение и теперь они с Патриком находятся в Ирландии. Наконец-то я мог расслабиться. Патрик явно предпочел бы остаться с Аннабель, но ему требовался мужской присмотр, а поскольку Джордж, вероятно, думал лишь о том, как бы избежать моей свадьбы, то я подозревал, что его новая роль опекуна устроит его в той же мере, что и меня.
После этого, исполненный решимости не позволить моему непреходящему беспокойству за сына испортить радость общения с Маргарет, я выкинул все неприятные мысли из головы. Патрик подвел меня. Я сделал для него все, что было в моих силах, а он все равно подвел меня, но теперь это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме Маргарет, и, когда я шел с ней по церковному проходу в тот жаркий июньский день 1860 года, мне казалось, что я иду назад во времени, пока я снова не остановился среди блеска моей далекой юности.
Мы обвенчались.
Маргарет надела простое белое платье и простую белую вуаль, в руке у нее был букет желтых роз. Она казалась маленькой, аккуратной и на удивление спокойной.
Я почти не помню ни церковную церемонию, ни прием. Дьюнеден произнес хорошую речь, не слишком долгую, и все гости пожелали нам счастья обычным способом – выпив шампанского. Амелия съездила в отель «Миварта» и заказала проведение приема там, но по его окончании мы поехали не на вокзал, а в мой дом на Сент-Джеймс-сквер. Было уже пять часов, и я решил, что нам будет удобнее провести ночь в Лондоне, чем мчаться на Континент первым подвернувшимся поездом.
Маргарет переоделась в зеленое шелковое платье с декольте и широкой юбкой с малюсеньким шлейфом. На затылке у нее сидел крохотный берет с развевающимися лазурными ленточками, контрастирующими с поблескивающей зеленью шелка, а на руках были миниатюрные – чуть ли не детские – перчатки в обтяжку.
В восемь часов мы пообедали без всяких изысков. Холодный лосось и немного картофеля в масле, приправленного петрушкой и ароматнейшим горошком, купленным тем утром в Ковент-Гардене. Потом подали силлабаб, который очень понравился Маргарет, после чего, не задерживаясь, чтобы выпить портвейна, я отправился с ней в гостиную.
К этому времени она уже надела платье из желтой парчи, оставлявшее плечи голыми, с несколькими ярдами кружевной отделки, в которую были воткнуты шикарные искусственные цветы. Я помню свет люстры, играющий бриллиантами, которые я ей подарил, и тихое шуршание ее шлейфа, когда она поднималась по лестнице в гостиную.
Некоторое время мы посидели там. Но когда пошли в спальню, было все еще светло. К концу июня дни становятся длинными.
Мы чуть не опоздали на дуврский поезд на следующее утро. Поскольку я всегда просыпаюсь в семь, то не видел причин просить слугу разбудить меня в восемь, а Маргарет, конечно, попросила горничную ждать вызова. При таких обстоятельствах никто не решился побеспокоить нас, и когда я проснулся, то, к своему ужасу, увидел, что уже девять. К счастью, мой секретарь помчался на станцию и задержал для нас отправление поезда, но мы так торопились, что в результате опоздали всего на пять минут. Я помню, как мы со смехом упали на сиденья нашего вагона, поезд тронулся с вокзала, а потом мы оба пришли к выводу, что ни у кого из нас еще не было такого сумасшедшего утра.
На Маргарет для защиты от морской свежести была светло-коричневая накидка, спереди приталенная, а сзади свободная, и большая круглая шляпа, а ниже подола ее юбки я видел ее маленькие ноги в невероятно узких туфельках.
После спокойного плавания до Кале мы провели несколько дней в Париже. Увы, воинственная политика Наполеона III оставалась неизменной, и атмосфера во Франции не благоприятствовала длительному визиту. Я поторопился в Швейцарию и Баварию, где мы могли забыть эхо войны прошлого лета. Я давно любил эту часть Европы, а теперь хотел показать ее великолепие Маргарет. По-немецки я говорю весьма бойко и вообще больше чувствую себя в своей тарелке в германоязычной, чем франкоязычной среде. Когда мы добрались до Базеля, все мои домашние заботы стали казаться такими же далекими, как Китай.
Перед отъездом из Берна, где мы провели несколько дней, я не сдержался и спросил у Маргарет:
– Ты счастлива?
– Даже не представляю, как можно быть счастливее! – рассмеялась она. – Разве это не очевидно?
– Я хотел удостовериться.
– Но ты же явно не мог подумать, что я притворяюсь!
Я ответил, что знаю: некоторые женщины чувствуют себя обязанными иногда подыгрывать мужьям.
– Я бы не стал из-за этого думать о тебе хуже, – осторожно объяснил я. – Знаю, любое притворство возможно, потому что ты любишь меня и хочешь быть щедрой, но ты должна говорить мне, не требую ли я от тебя слишком многого, потому что я не хочу, чтобы ты была несчастна. Ты не должна думать, что я не пойму.
– Но как ты можешь требовать от меня слишком многого? – спросила Маргарет с искренним недоумением, а когда я попытался объяснить, что имею в виду, вид у нее стал еще более удивленный. – Эдвард, – твердо сказала она, – один из нас ведет себя очень глупо, и у меня ужасное ощущение, что это не я. Поскольку я понятия не имею, о чем ты твердишь, не мог бы ты выражаться чуть яснее?
Я попытался объяснить ей еще раз, и опять нас обоих это привело в смущение, но наконец Маргарет с недоумением воскликнула:
– Но это же блаженство! Разве все женщины не чувствуют того же? – А потом в ужасе: – Боже мой, неужели женщины не должны так чувствовать?
И только в этот момент я ясно понял, как многого мне не хватало в столь дорогом для меня браке с Элеонорой.
– Я никогда не понимал, почему Элеонора изменилась, – признался я. – Мне было бы легче, если бы я понял.
Мы были в городке Интерлакен, и за тяжелыми бархатными шторами на окнах наших барочных апартаментов под склонами гор неясно мерцали усыпанные цветами луга. Но я говорил и не видел гор, я смотрел в прошлое, в более мрачные времена. При этом не мог даже поверить, что наконец произношу вслух самые мои потаенные мысли:
– Да, во время медового месяца возникали трудности, но мы были молоды и влюблены, а в таких обстоятельствах никакие трудности не длятся долго. Даже когда стали рождаться дети, все было хорошо. Деторождение не было мучительным для Элеоноры, и ей хотелось добиться больших успехов в материнстве – не меньших, чем в супружестве. Элеонора всегда стремилась к успеху. Будь она мужчиной, возможно, занялась бы политикой, но, поскольку мир женщины более ограничен, она всю свою энергию направляла на продвижение моей карьеры и воспитание детей. Мы точно знали, сколько детей хотим: двоих мальчиков и двух девочек. Даже передать не могу, как мы радовались, когда у нас сначала появилась дочь, потом два мальчика, а затем еще девочка. Элеонора сказала, что мы должны гордиться такими результатами, и мы смеялись. Мы были очень счастливы.
Я больше не осознавал присутствия Маргарет в комнате, теперь со мной была Элеонора, красивая и элегантная, темноволосая, темноглазая, ослепительная.
– Но ребенок умер. – Воспоминание об Элеоноре стало туманиться. – Маленькая девочка. Ее назвали Беатриса. Когда Элеонора оправилась от потрясения, она хотела одного – еще ребенка, и родила еще одну девочку, но та прожила всего три месяца, а потом у двух наших мальчиков – Джона и Генри – появились симптомы чахотки. Не могу тебе передать, каким это стало для нас потрясением. Поначалу это нас сблизило, но, когда мальчики умерли, я понял, что Элеонора страдает от ужасного ощущения краха – словно ей не удалось родить мне ни одного ребенка, который выжил бы. Признаю, я думал о сыне, потому что человеку моего положения важно иметь наследника, но мог и подождать. Я не горел лихорадочным нетерпением восполнить то, что потерял. Но Элеонора ни о чем другом и думать не могла. Она утратила интерес к окружающему миру, но наконец, слава богу, родилась Аннабель, потом Луис, и у нас теперь было три здоровых ребенка. Мне этого было достаточно. Я больше не хотел детей.
Солнце проникало в окно, и я вдруг снова оказался в детской дома в Вудхаммере, мы с Нелл заглядывали в колыбельку Луиса, и она засовывала свою маленькую ручку в мою.
– Элеонора понимала меня. Именно она предложила уехать на какое-то время. Сказала, что чувствует себя виноватой, потому что, как ей казалось, она пренебрегала мною в самые скорбные наши дни. «Но я хочу загладить свою вину перед тобой, – заявила она. – Я снова хочу быть для тебя хорошей женой, Эдвард, лучшей женой, какую ты можешь только пожелать». Понимаешь, она всегда стремилась к совершенству. У нее были такие высокие стандарты. Моя мать убеждала ее: «Что ты будешь делать, Элеонора, если настанет день, когда поймешь, что не отвечаешь своим высоким стандартам?» Но я думаю, она так говорила, потому что немного ревновала, как нередко современные матери ревнуют к успешным невесткам.
Как бы то ни было, я согласился с предложением Элеоноры, и тогда-то мы и отправились в Америку. Уже давно хотели посетить Новый Свет, и вот нам представилась идеальная возможность.
Теперь я перенесся в Бостон. Смотрел из окна отеля на «Коммон», а вдали виднелись огни Бикон-Хилла.
– Но что-то случилось с нами, – продолжал я. – Наши интимные отношения теперь вызывали у Элеоноры отвращение. Не знаю почему. Она говорила, что, вероятно, противозачаточные меры породили у нее чувство вины. Ей казалось, что она нарушает церковное учение. Но я не мог в это поверить. Жена вовсе не была религиозной. Мы, конечно, регулярно ходили в церковь, подавали пример детям, но между собой оба склонялись к скептицизму. Наконец Элеонора сообщила: она уверена, все снова будет хорошо, если мы перестанем принимать меры, препятствующие беременности. Так оно и оказалось на самом деле. Все снова стало хорошо, но… – Я замолчал. На несколько секунд лишился дара речи, но наконец сумел выдавить: – Нет, все не стало хорошо. Я хотел верить, что все хорошо, а хорошо не было.
Я в первый раз посмотрел на Маргарет. Она замерла, казалось, и дышать перестала. Смотрела спокойными ясными голубыми глазами.
– Мои друзья считали, что все хорошо. Иногда они говорили мне: «Ты счастливчик, у тебя такая преданная жена!» Их жены перестали спать с ними много лет назад, их жены больше не беременели. А потом я увидел, как мои друзья рыщут в поисках любовниц, и подумал, что мне, вероятно, и в самом деле повезло. Элеонора все еще принадлежала мне, и она была таким чудесным спутником, разделяла мои интересы, способствовала моей карьере, делала все возможное, чтобы быть идеальной женой. Спустя какое-то время я убедил себя, что должен благодарить судьбу и никогда не сердиться, сколько бы раз она ни беременела.
Я замолчал на какое-то время. В комнате стояла тишина. Наконец я смог продолжить:
– Так продолжалось несколько лет до рождения Патрика. И тогда все закончилось. Доктор сказал, что ей больше нельзя рожать. И с тех пор она ни одной ночи не провела со мной.
Я нахмурился, вспоминая прошлое, размышляя о нем в бесплодных попытках понять.
– Любопытно, когда Элеонора осознала, что больше не может быть идеальной женой, она потеряла интерес к этому и перестала быть не только хорошей женой, но и хорошей матерью. Отдалилась от меня, отдалилась от детей. Конечно, она долгое время болела. В особенности после смерти Луиса, когда с ней случился нервный срыв. Но даже позднее у нее не вернулся интерес к детям. Я мог понять ее невнимание к Патрику, который погубил ее здоровье, но странно, что она стала безразличной и к девочкам. Словно потеряла весь свой страх перед неудачей, прекратила какую-то ужасную борьбу и хотела только одного – признать поражение. Она очень сильно изменилась.
И я так никогда и не понял причин. Почему она разделяла со мной спальню, лишь когда это могло закончиться беременностью? Элеонора явно чувствовала, что только для этого и может быть близка со мной. Но почему? Моя ли в этом была вина? Что я сделал не так? Не мог ли я как-то исправить положение? Я ведь очень любил ее. До того последнего отчуждения я неизменно хранил ей верность, а это было нелегко. Доктора не рекомендовали ей супружеских отношений во время беременности, а потому она целыми месяцами спала в другой комнате. Но я мирился с этим, поскольку любил ее и знал: невзирая на все наши трудности, она тоже любит меня.
Я снова посмотрел на Маргарет, увидел в ее выражении намек на то, что она близка к какому-то глубинному, мучительному пониманию, но инстинкт говорил мне, что безопаснее до этого понимания не доходить.
– Ты знаешь, Элеонора и в самом деле любила меня, – пробормотал я, будучи не уверен, почему повторяю эти слова, но зная: нам обоим жизненно важно верить в них. – Хорошие жены всегда любят мужей, правда? А Элеонора была такой идеальной женой.
Маргарет потеряла голову от Швейцарии. Когда мы добрались до моей любимой гостиницы, выходящей на озеро Люцерн, она купила пятьдесят оттисков различных видов, три дюжины стеклянных пластинок для своего волшебного фонаря, бессчетные ярды швейцарских вышивок и трое часов с кукушкой. Погода стояла теплая, каждый день долго светило солнце, и с балкона нашей комнаты мы могли смотреть на парящие в вышине вершины горного массива Пилатус.
– Значит, вот что оно такое – слепая любовь, – шутливо сказал я Маргарет как-то днем. – Я понятия не имею, что происходит в парламенте. Может быть, рушится вся Британская империя, а я ничего об этом не знаю и знать не хочу. У меня нет желания читать газеты, книги – хотя мог бы полистать какой-нибудь фривольный роман, – написать статью и вообще делать что-либо, кроме как быть с тобой. Я всегда думал, что причиной отрицательного отношения людей к тем, кто сражен слепой любовью, является презрение. А теперь я знаю – это вовсе не презрение, а ревность.
Маргарет, которая сидела погрузившись в свой дневник, куда заносила подробные описания увиденного, подняла взгляд.
– Если у тебя слепая любовь, – жестко ответила она, – то меня зовут не Маргарет де Салис. Эдвард, дорогой, мне бы хотелось, чтобы ты не думал столько о своем возрасте. Я об этом не думаю, так зачем это тебе?
– Я думаю об этом не так уж часто, но не могу избавиться от посещающего меня изредка желания сбросить несколько годков.
– Ну и что это даст? Возраст – это состояние ума, это как лежать на доске, утыканной гвоздями, – произнесла туманную фразу Маргарет и добавила, словно для того, чтобы закрыть тему: – И вообще ты так хорошо сложен и так силен, что вполне можешь дожить до ста лет.
– Но какой же ужасной судьбой это будет для тебя!
Она рассмеялась.
– Я буду любить тебя всегда, – отрезала Маргарет тем уверенным тоном, который свойствен молодым людям. – Ты в это не веришь?
– Я бы очень хотел верить в это.
Несмотря на мой легкомысленный тон, она, вероятно, услышала мой цинизм, крайнее проявление моей печали. Оставив дневник, Маргарет вскочила, пробежала по комнате и поцеловала меня.
– Тогда ты должен поверить, – серьезно убеждала она, – потому что так оно и есть. Дорогой Эдвард, ты дал мне все, что я могла пожелать. Да что говорить, я чувствую себя совершенно новым человеком. Неужели ты и вправду думаешь, что я перестану тебя любить только потому, что твоя старость наступит раньше моей? Какого же ты плохого мнения обо мне!
– Ты прекрасно знаешь, какого я о тебе мнения, – ответил я, улыбаясь ей, и вдруг вся моя печаль исчезла и я снова стал самим собой. Я посмотрел на нее, – на мой взгляд, она была прекрасна, такая маленькая и аккуратная, такая свежая, жизнерадостная и веселая. – Я очень люблю тебя.
Вдруг возраст перестал иметь значение; мы перешли в эмоциональное измерение, в котором времени не существует. Теперь она просто была Маргарет, которая любила меня и которая будет любить меня, пока я тоже люблю ее.
Когда мы приехали в Цюрих, я написал моему племяннику Джорджу – просил его отправить Патрика в Лондон так, чтобы он оказался там перед нашим с Маргарет возвращением после медового месяца. Я хотел, чтобы по крайней мере один из моих детей был на Сент-Джеймс-сквер, чтобы встретить мачеху в ее новом доме.
А Патрику я написал: «Ты можешь в значительной мере искупить свое неподобающее поведение, если достойно предстанешь перед Маргарет. Я хочу, чтобы к нашему возвращению ты оделся соответственно случаю в свой лучший костюм, надлежаще подстригся и причесался. Я уверен, что ты будешь вежлив, гостеприимен и внимателен. Надеюсь, что не слишком обременяю тебя своей просьбой». Я подписал письмо, но тут мне в голову пришла еще одна мысль: «P. S. Если ты подрос, то вызови портного и закажи новую визитку с брюками. Можешь заказать и новый жилет, но ни в коем случае не из какого-нибудь вульгарного материала – шотландки или в клетку. Пусть портной посоветует тебе, какой выбрать цвет, чтобы было со вкусом и без претензий».
Я знал, что молодые люди его возраста понятия не имеют, как благоразумно одеваться, а потому решил уточнить мои пожелания. Я никак не хотел увидеть его в жутком твидовом костюме нараспашку с каким-нибудь разноцветным ужасом под визиткой, как одеваются бездельники.
В начале сентября мы выехали из Швейцарии и направились на север через Баварию в Мюнхен, а потом на восток через Великое герцогство Гессен во Франкфурт, в Кобленц и Кёльн. Путешествовали мы в основном поездом, хотя часть пути преодолели на пароходе вверх по Мозелю мимо виноградников, которые милю за милей покрывали склоны долины. Я решил, что предпочтительнее вообще обогнуть Францию, и когда мы наконец покинули германские герцогства, то направились в Остенде, где сели на паром, который доставил нас в Англию. В целом это было очень приятное возвращение, хотя после Альп Лоуленд не произвел на Маргарет особого впечатления.
Ближе к вечеру 19 сентября мой экипаж остановился перед моим домом на Сент-Джеймс-сквер.
– Сколько всего случилось, после того как мы уехали отсюда! – воскликнула Маргарет, которую уже одолевала ностальгия по медовому месяцу, и я, улыбнувшись, взял ее за руку и повел по ступеням к двери.
Патрик встречал нас в холле. Я поздравил себя с тем, что предвидел, как он вырастет. Сын теперь почти догнал меня, а его волосы, светлые, как и у меня в его возрасте, были безукоризненно расчесаны на пробор. Из-за роста он казался старше своих пятнадцати лет. Жаль, что его поведение не такое зрелое, как его внешность.
– Добро пожаловать домой, папа, – почтительно сказал он и шагнул вперед, чтобы пожать мне руку. – Я надеюсь, путешествие было хорошим.
Я улыбнулся, чтобы показать ему, что доволен его манерами.
– Путешествие было очень приятным, спасибо, – ответил я. – А теперь позволь познакомить тебя с твоей кузиной Маргарет. Моя дорогая…
Я повернулся, чтобы представить Маргарет, и, когда увидел ее лицо, с ужасающей ясностью понял, что Патрик ее ослепил.