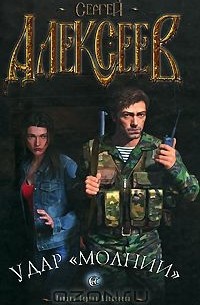Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
5
По дороге в Москву Сыч все-таки уговорил генерала не предпринимать никаких действий против Кархана хотя бы сутки. Во-первых, была еще надежда на его благоразумие: убедившись, что дед Мазай погиб в пожаре, бывший «грушник» скорее всего должен отпустить дочь генерала. Ему сейчас опасно и невыгодно конфликтовать со спецслужбами России, а живого «товара», который был сам готов отправиться в сладкое восточное рабство, и так достаточно. Во-вторых – а это казалось деду Мазаю главным аргументом, – Кархану не позволит совесть глумиться над памятью. Хоть и не были друзьями, и работали вместе недолго, но было же воинское братство! Конечно, лет много прошло. Много событий и причин, которые развели их в разные стороны. Однако должно ведь что-то оставаться навечно, навсегда – к примеру, офицерская честь, честь профессионального разведчика, обыкновенная человеческая добропорядочность. Можно служить другим хозяевам если не за идею, так за деньги; можно пользоваться запрещенными приемами и брать заложников – в психологии восточных народов это расценивается как геройство и удаль. Но есть же предел даже в подлости и коварстве!
Дед Мазай практически не видел, как выросла дочь Катя. Папа был для нее подарком, являясь домой перед каким-нибудь праздником на несколько дней, в отгулы и отпуска. Нормальное положение вещей в семье выражалось некой культовой формулировкой – «папа на службе». Жена привыкла не задавать вопросы, что это за служба и с чем связана, но детское неуемное любопытство долго не находило покоя, и генерал специально для дочери придумывал всевозможные истории. Она знала, что ее папа – военный строитель, однако строит не дома и дороги, а стратегические военные объекты – пусковые ракетные шахты, местонахождение которых нужно держать в секрете. Легенда была удобна тем, что всегда можно было объяснить длительные командировки и отказать дочери, если она просилась посмотреть на папину стройку. Когда же началось массовое разоружение России и дочь посмотрела по телевизору, как взрывают шахты, взорвалась вместе с ними и эта легенда. В то время Катя заканчивала школу, ходила по молодежным тусовкам и сама вычислила, что ее папа работает в КГБ. Вместе с шахтами взрывали и государственные институты, поэтому служить в Комитете уже считалось позором, а быть дочерью кагэбэшника – значит быть презираемой сверстниками, отторгнутой от своей среды, навечно униженной и заклейменной. Как всякий подросток, Катя переживала свой «порок» молча, в одиночку и в момент глубокого отчаяния попыталась покончить с собой – выпила пять стандартов снотворного. Мать спохватилась вовремя, насильно сделала промывание желудка, откуда таблетки буквально посыпались. После этого дочь окончательно замкнулась, ушла в себя, и тогда генерал нарушил инструкцию – взял с собой дочь на «стройку». Две недели жизни на тренировочной базе – и от всех комплексов не осталось следа. Возле генеральской дочки тут же зароились все холостяки «Молнии», а поскольку вместе с боевыми задачами отрабатывались, как всегда, и вспомогательные, в частности языковой практики, то на базе были «дни французской культуры». Говорили все исключительно на французском, и Катя тихо шалела от внимания, расшаркивания и обходительности. Снайпер Шутов выучил ее стрелять из всех видов оружия – от пистолета до подствольного гранатомета, Саня Грязев учил танцевать, правда, русские плясовые. Князь Тучков, не зная настоящей родовой фамилии генерала, сразу же усмотрел в Кате княжну и называл ее только так, и не иначе, «облизывался» всерьез, хотя по возрасту годился в отцы.
Конечно, с точки зрения продавца живого товара, дочь генерала КГБ была товаром экзотическим, дорогим, но если Кархан перешагнет барьер памяти, воинского братства, то живым из России уже не уедет…
Сыч поселил генерала на конспиративной квартире, оставил офицера для связи и поручений, а сам уехал к руководству – докладывать о результатах операции. Время тянулось медленно, угнетали полное бездействие и неопределенность. Оправившись от шока, смирив щемящую боль, дед Мазай попытался трезво оценить ситуацию. После похищения Кати Кархан немедленно выехал из гостиницы и перебрался на частную, скорее всего заранее подготовленную квартиру на Ленинградском проспекте. Местонахождение дочери по-прежнему было неизвестно: из-за недостатка машин и средств охрану к ней приставили пешую, и пока она канителилась с попыткой остановить такси, похитители скрылись. Были известны марка и государственный номер автомобиля похитителей, да все наверняка было липовое. К тому же прямой способ поиска затянется на многие дни, а то и недели, и вряд ли даст результаты. Квартир, подобных той, в которой сейчас находился Кархан, по Москве наверняка были сотни, а поскольку куплены они чаще всего на подставных лиц, становилось бессмысленно организовывать широкомасштабный поиск, на который у ФСК, кстати, нет ни сил, ни средств. Катю будут перевозить с одного места на другое, из Орехово-Зуево в Долгопрудный, и потратишь месяцы, чтобы распутать ее след.
И все-таки оставался единственный путь – брать Кархана. Если он поверил в «гибель» генерала и не лишился остатков совести, то на похороны должен отпустить Катю. Тогда пусть его берет Сыч, коль найдет это необходимым. Если нет, то придется делать это самому, не привлекая официальные органы, в «частном» порядке, поскольку улик против Кархана наверняка не обнаружится, а в его деятельности в России нет ничего противозаконного. Он в самом деле представлял транснациональную нефтяную компанию, имел надежное прикрытие и живой «товар» переправлял вполне официально: для работы за рубежом по контрактам. В каких государствах, в чьих гаремах оказывались русские девушки, ни ярых правозащитников, ни правительство не интересовало.
Сыч приехал поздно вечером и привез видеоматериалы с пожара в Дубках. Оператор снимал в основном общий план и лишь несколько раз «наехал» камерой на интересующие его эпизоды. В первый раз, когда вместе с пожарными в специальном снаряжении в дом пытаются войти двое неизвестных, отделившихся из толпы зевак – местных жителей. Брандспойты бьют в окна и на крышу, но помещение сильно задымлено. Сначала пожарные вынесли «генерала» – полуобгоревший труп, положили его рядом с машиной «скорой помощи». Эти неизвестные бросились к нему, помогают накрыть простынею. Один из них в этот момент снимает фотоаппаратом типа «мыльница». Есть крупный план, можно идентифицировать личности. Затем пожарные вытаскивают второй труп, как пояснил Сыч, из-под лестницы. Врач «скорой» склоняется над ним, кажется, смотрит глаза – мертв… Укладывают на носилки и тоже накрывают. В это время из толпы появляются уже трое, приближаются к телу, один поднимает простыню, другой начинает проверять одежду на покойном. Их отгоняет водитель со «скорой», что-то резко говорит. Оператор все время держит «объекты» в кадре. Через минуту, воспользовавшись случаем, эти трое быстро поднимают тело и несут к машине «БМВ», стоящей на противоположной стороне улицы. Вдруг бросают, бегут, садятся в машину и уезжают. В кадре возникают два работника милиции. Тело уносят обратно к «скорой»…
– Это некто Догаев, – сказал Сыч. – В восемьдесят третьем осужден на двенадцать лет за разбойное нападение в Грозном. Наказание отбывал в Инте, освобожден при странных обстоятельствах: будто бы по болезни, инвалид первой группы.
– Хороший инвалид, – буркнул генерал.
– При нем найдено водительское удостоверение на другое имя и пистолет Стечкина с сорока патронами…
– Куда поехали эти трое?
– На Авиамоторную. – Сыч стал перематывать пленку. – Остались там в квартире. А оттуда на Ленинградский проспект поехал другой человек, гражданин Турции Мараш. Личность установлена. Примерно через час в эту же квартиру на Ленинградском вместе с вещами перебрался и Кархан. Квартира хорошо охраняется, имеет радиозавесу от прослушивания.
– Штаб у них там?
– Пытаемся установить… Скорее всего конспиративная. А эти трое через полтора часа на том же «БМВ» поехали на работу. Трикотажная фабрика по улице Вятской, принадлежит российско-турецкой фирме «Гюльчатай». На проходной предъявили пропуска…
– Куда увезли мое тело? – спросил генерал.
– В морг нашей клинической больницы… А твоего спасателя отправили в морг одинцовской больницы. Так вот сегодня после обеда труп исчез при невыясненных обстоятельствах.
– Если он исчезал из лагерей Инты, то из какого-то Одинцова… – Дед Мазай не мог впрямую спросить о дочери, а Сыч пока отмалчивался о ней, и чем дольше, тем безысходное казалась ситуация.
– На мой взгляд, Кархан поверил в твою «гибель», – заключил Сыч. – Завтра подкрепим версию сообщением в газетах, потом похороны…
– Предлагаешь ждать мне до похорон? Коля, я ведь отец!.. А есть еще мать! Можешь представить ее состояние? Тут еще похороны… Все равно действует на нервы! Я сижу взаперти, без документов. Где мои документы?
– Руководство против новой фамилии. Слишком звучная, заметная, привлечет внимание…
– Но это моя настоящая фамилия! Что значит против?!
Сыч что-то недоговаривал, что-то хотел спустить на тормозах, выполняя роль буфера между генералом и директором ФСК. Сейчас он не хотел ссоры между ними, а точнее, углубления неприязненных отношений, которые возникли еще до октября девяносто третьего. Сыч прекрасно знал отношение деда Мазая к дилетантам, к жлобствующим, надувающим щеки «верным ленинцам», которые вообще не смыслили в том деле, которым руководили. Генерал допускал, что управлять государством в процессе его реформирования может и кухарка, поскольку никто так основательно не в силах разрушить государственное устройство, кроме нее. Однако управлять безопасностью государства в любой период должны только профессионалы, ибо эту самую безопасность все время приходится строить, а не разрушать. Когда речь касалась современной политики в России, генерал становился откровенным циником, что и привело к разногласиям его с директором ФСК еще до расстрела парламента. «Членов Политбюро» уже не хватало, чтобы заткнуть все дыры на ключевых постах, в ход пошли недоучки всех мастей, «верные ленинцы» – революционно настроенные кухарки, попавшие из коммунальных кухонь во дворцовые. Поэтому генерал открыто посоветовал директору распустить профессионалов из ФСК и набрать революционных матросов, которые выполнят любую его команду. После «танковой демократии» директор и последовал его совету: «Молнию» погасили, а «Вымпел» передали в ведение набирающей силу другой кухарке, управляющей МВД, прекрасно зная, что профессионалы не станут служить ей и разойдутся сами.
Теперь, ко всему прочему, получалось, что, возвращая свою настоящую фамилию, генерал уязвил «верного ленинца» еще раз. Оказывается, бывший командир элитарного, «избалованного» вниманием спецподразделения не какой-то мужик Дрыгин, а князь Барклай-де-Толли, о героических предках которого он слышал еще в школе.
Сыч давно уже не служил в спецподразделениях, отвык от элитарности и привык к аппаратной дипломатии, поэтому старался сгладить резкие противоречия отставного генерала с руководством. И делал это не из каких-то меркантильных соображений, а по своей убежденности, в чем-то противоположной, чем у деда Мазая. Сыч полагал, что высший смысл профессионализма у оперативника – это пережить смутный период, научить, а если невозможно – «перековать», переубедить, заставить «брандмайора» работать на государственную безопасность. В прошлом директор ФСК был пожарником…
– Не горячись, Сергей Федорович, – стал срезать углы Сыч. – Фамилия в самом деле звучная, у всех на слуху. А тебе сейчас лучше быть незаметным, невзрачным, что ли… Потом можно еще раз…
– Еще раз: не хочу! – отрубил генерал. – Знаешь что, давай-ка поговорим, как в реанимации. Только теперь наоборот: ты будешь жить, а я – не знаю. И никто не знает. Потому что я потерял почти все: похитили дочь, дом, можно сказать, сам спалил. Потерял прошлую жизнь, мой подчиненный становится моим врагом, заперт в этих стенах… Осталось потерять имя – и всё… Но почему я у себя дома, в России, в Москве, должен жить как в тылу врага? Прятаться, быть незаметным? А Кархан, подданный Саудовской Аравии, живет в моем доме как хозяин? И я должен опасаться назвать свое имя? Потому что «брандмайору» оно кажется вызывающе громким!
Сыч вскинул брови, встал, заслонил собой полкомнаты.
– Если как в реанимации, то я могу повторить, что ты говорил. Помнишь?.. «Если ты умрешь – я никогда не возьму в руки боевого оружия, напишу рапорт и уйду». Если не отыщу твою дочь, не спасу тебя, твое имя… Наизнанку вывернусь, найду и спасу! Но ты тоже не раскисай, не впадай в панику! Я выжил, потому что царапался, выдирался из смерти. А ты, генерал, скис! Обида и вызов, больше ничего!
– Я на жлобов не обижаюсь, – отпарировал генерал. – А делать вызов «брандмайору» – ниже моего достоинства.
– Ну да! Ты же князь, а он из мужиков!.. Хороший девиз на вашем княжеском гербе – «Верность и терпение»…
– Порылся, почитал, молодец…
– С верностью у тебя все в порядке, а с терпением нынче туго.
– Коля, у меня Катю похитили средь бела дня. И сделал это человек, в какой-то степени близкий, но предавший меня. Не Родину, а лично меня. О каком терпении речь? – Он сделал паузу, проталкивая болезненный ком в горле. – Меня изъяли из поля зрения, Кархан поверил… А что же с остальными? Глеба Головерова наверняка уже пасут – начальник штаба. Да всех, Господи! И всех – на нелегальное? По конспиративным квартирам?.. Я ведь о другом говорю, понимаешь меня? И вот на другое у меня нет терпения.
– И я – о другом, – вдруг заявил Сыч. – Ты все еще обижаешься на «брандмайора», а он уже совершенно иной стал. Обломали мы его, обкатали, приспособили. Он пока еще мало в чем разбирается, но уже достижение – перестал нам мешать, не лезет туда, в чем не разбирается.
– Достижение!
– Напрасно смеешься, генерал. Когда не мешают – можно работать. Мы три дня подряд встречаемся с ним и говорим о тебе. Уверяю, он не тот, что был… Ты согласись, все спецподразделения – вещи все-таки элитарные. От подбора кадров до элементарного быта. Если не избаловали вниманием, то уж никогда не обходили…
– И знаешь почему? – зло усмехнулся дед Мазай.
– Знаю, знаю. Правильно, вы были заложниками у всех правительств. Бойцовых псов хозяин всегда кормит со своей руки.
– Молодец, соображаешь! И что же дальше?
– Пойди сам к «брандмайору», – вдруг сказал Сыч. – Подтолкни его. Он признал собственную некомпетентность. А главное – правомерность решения спецназа не штурмовать Дом Советов. Исчез страх перед вашей самостоятельностью…
– Да, и он снова решил завести бойцовых псов?
– Еще не решил, колеблется. Самое время подтолкнуть.
– Не пойду! – отрубил генерал. – Пусть заводит карманных собачек. Они не кусают руку хозяина.
– Сергей Федорович, «брандмайоры» приходят и уходят…
– Это я уже слышал!
– Ты профессионал. Должен быть мудрее, хитрее, что ли… Перешагни через обиду, сделай к нему первым шаг. – Сыч дипломатничал, подыскивал слова. – У всех этих «верных ленинцев» комплекс власти. Подай ему… даже не руку, а один палец – он сам схватит твою руку и будет трясти. А ты тем временем вложи ему свои мысли, пусть он их присвоит. И сам побежит доказывать и в правительство, и в Совет по безопасности, и к президенту.
– Терпеть не могу эти аппаратные игрушки! – Дед Мазай потерянно побродил по комнате. – Не зная тебя, можно подумать, что ты обыкновенный ловкач, беспринципный угодник…
– Да, и готов прогнуться перед начальством!
– С точки зрения политика, все в порядке. Уступчивость, компромисс, консенсус… Я же не политик, а воин. Не мое это дело – подталкивать дилетантов. В жлоба хоть золотое яйцо вложи, все равно он снесет тухлое. Не верю я в их перерождение, не верю!
– Хорошо, давай отложим этот разговор, – стал смягчать Сыч. – До лучших времен. Думаю, они близко… Мне пора на службу. Пока обещаю одно – завтра привезу документы. А ты мне обещай – до похорон никаких действий, никакой самодеятельности. Дадим Кархану возможность, последний шанс.
– Он-то хоть под контролем? – ворчливо спросил генерал.
– Под контролем и под охраной.
– Катя тоже была под охраной…
– Ну хватит меня мордой об лавку-то! – возмутился Сыч. – Не добивай, всю ночь еще работать…
– А я буду спать! – отпарировал дед Мазай. – Только вот сказочку на ночь почитать некому. Будь добр, разыщи мне майора Крестинина из «Альфы», пусть сегодня же приедет ко мне.
– Зачем? – насторожился Сыч, подозревая в язвительности генерала скрытую угрозу.
– Сказки читать!.. По телефону бы достал, да записная книжка осталась… в той жизни. А по справочному телефонов сотрудников спецслужб не дают. Пока еще не дают… Но скоро кто-нибудь и эту нишу заполнит. Можно открыть приличное товарищество с ограниченной ответственностью.
– Терпи, Сережа, – вместо ответа сказал Сыч и уехал.
Крестинин в «Молнии» исполнял обязанности помощника командира по оперативной разведке и был еще неофициальным летописцем, поскольку сочинял мемуары. Оригинальность их заключалась в том, что он не записывал свои сочинения, оставляя их в голове, и не потому, что их невозможно было опубликовать. Просто творческое вдохновение приходило к нему исключительно в боевой обстановке. Это был своеобразный аутотренинг, защита нервной системы от перегрузок. Алеша Отрубин молился в таких случаях, сам генерал вспоминал и читал про себя стихи Иннокентия Анненского или монологи Гамлета – каждый спасался как МОР, ибо в критической ситуации нельзя было замыкаться на себе и собственных чувствах.
Впервые дед Мазай узнал об этом увлечении Крестинина в Грузии, когда помогали свергать ненавистную законную власть всенародно избранного президента. А если точнее, то помогали сесть на престол грузинскому «члену Политбюро», который в суматохе развала СССР остался без полагающегося ему по рангу президентского дворца. Дворец этот был занят и оборонялся довольно хорошо уже две недели, и местными силами взять его оказалось невозможно. Так вот когда «Молния» под сильным огнем медленно просочилась ко дворцу и ночью заняла баррикады из железобетонных блоков, чтобы уже с этой исходной позиции штурмовать здание, дед Мазай взял свой старый автомат АК и пошел взглянуть на своих «зайцев». Из дворца стреляли густо и прицельно, поэтому пришлось попетлять и наползаться по площади, пока добрался до баррикад и бойцов, лежащих за блоками и бронещитами. После короткой перебежки он упал за железобетонный блок и вдруг совсем рядом услышал какое-то бухтение на русском языке. А был строжайший приказ не говорить по-русски вообще, отдавать команды по радио, переговариваться и ругаться только на грузинском.
– Кто там? – негромко окликнул генерал.
– Гнэвный грузынский народ, – отозвался Крестинин громким шепотом. – Кыпит наш разум возмущенный…
– Ты что там, молишься?
– Умел бы, так… Не умею!
– Чего же бухтишь, как глухарь на току? Приказ слышал?
– Слышал, товарищ генерал, – вздохнул майор. – Да я ведь мемуары сочиняю. И думаю по-русски.
Пули долбили блок, повсюду пел рикошет, брызгала каменная крошка. Президентская гвардия не жалела патронов, и надо было подождать, когда у нее нагреются стволы, закончатся снаряженные магазины и наступит психологическая усталость от стрельбы в пустое пространство.
– Тебе что, в лоб прилетело? – спросил дед Мазай. – Или контузило?
– Потому и сочиняю, пока не прилетело, – нашелся Крестинин. – Хочешь послушать? Вернее, разреши прочитать маленькую главку?
Лучше было слушать майора, чем автоматный треск, хруст бетона у головы и певучий рикошет.
– Ну, давай, – согласился генерал.
– Даю!.. Значит, так. «Лежал я на площади посередине столицы одного суверенного государства, и было надо мной южное ночное небо с овчинку. И одолевали меня интересные мысли. Вот лежал я и думал: была у нас великая империя из пятнадцати республик, из пятнадцати братских народов, которые научились мирному сосуществованию и жили без единого выстрела. И был единственный дворец – Кремлевский, за древними, неприступными стенами. Но сотворили из этих народов стада голодного, однако же крупнорогатого скота, а каждому племенному быку дали по дворцу. Стало у нас пятнадцать дворцов, пятнадцать отличных скотных дворцов с бугаями, у которых с целью освобождения вынули железные кольца из ноздрей, а с целью защиты бычьих прав не подпиливали рогов. И начали они бодаться между собой, бодать свои стада, вздымая на рога своих рогатых и безрогих соплеменников. И послали меня сотоварищи чистить от навоза эти дворцы. И чистил я всего лишь второй, а впереди было еще тринадцать…» – Крестинин сделал паузу и вдруг попросил: – Дедушка Мазай, выручи, дай хлорэтильчику, если есть? Я автомат высуну, а ты запихай в подствольник.
Ампула с хлорэтилом у генерала была свежая, еще невскрытая. Он достал ее из бронежилетного кармана, обернул тампоном и запихал в подствольный гранатомет Крестинина. От прямого или даже скользящего попадания в бронежилет на теле вспухал болючий кровоподтек. Побрызгаешь его хлорэтилом, «заморозишь» – и жжение как рукой снимает…
– Ну что, продолжать? – спросил майор, возвращая ампулу таким же образом. – А то после штурма все забуду, ни одной мысли…
– Не наводи тоску, – сказал генерал. – О подвигах Геракла уже написано.
– Чистить Авгиевы конюшни – удовольствие, – отозвался Крестинин. – А вот скотные дворцы… Какой тут подвиг?
– В жизни всегда есть место подвигу, – отпарировал дед Мазай и пополз вдоль железобетонных блоков.
Крестинин был близок ему по циничному отношению к современной политике…
Он приехал под утро, когда генерал и в самом деле заснул. Офицер-порученец не стал его будить сразу, хотя имел такой приказ, а прежде усадил гостя на кухне и сварил ему кофе.
– Мне тоже кофе, и побольше, – распорядился генерал, пожимая руку майора. – Пошли в кабинет.
Посвящать Крестинина в дела последних дней оказалось излишним: Сыч все ему поведал и, должно быть, проинструктировал. В Москве было тихо, не стреляли, в окна семнадцатого этажа было видно огромное светлеющее небо, однако летописец отчего-то начал сочинять свои мемуары, изменив привычному правилу.
– «Своего бывшего командира я застал запертым на конспиративной квартире, в полном унынии и непривычном состоянии подавленных чувств, – тоном рассказчика заговорил Крестинин. – Было ощущение, что находится он в каком-то спрессованном пространстве, в тягучей, как мед, среде, где трудно сделать всякое движение…»
– Двигаться трудно, – перебил его генерал. – А об унынии ты напрасно. На три дня можешь освободиться от службы?
– Могу, – пожал плечами майор, глядя выжидательно.
Дед Мазай подал ему телефонную трубку:
– Звони, освобождайся.
Крестинин удивленно похмыкал, покачал головой, однако отзвонился своему начальству и получил «добро», не объясняя сути дела.
– Теперь слушай внимательно. – Генерал притворил дверь в кабинете. – Сейчас же разыщи Головерова. Вместе с ним соберите группу из пяти наших мужиков, кто свободен или кто может дня на три отключиться от всяких дел. В условиях полной конспирации. Я знаю, Тучков болтается без работы, Грязев…
– Грязева в Москве нет.
– Кто есть? Знаю, Шутов в Бутырке…
– Есть Отрубин и Володя Шабанов.
– Отлично, хватит. – Дед Мазай уселся за стол. – Первая группа: Тучков, Отрубин, и Головеров – старший. Передай ему: пусть возьмет под наблюдение Кархана.
– Ты Сычу не доверяешь, дед?
– Сычу доверяю, его службам – нет… Лучше подстраховать, потому что Кархан может исчезнуть. А мне отпускать его нельзя!
– Все понял, – прервал закипающую ярость майор. – Головеров не отпустит.
– Твоя задача следующая, – продолжал генерал. – На Вятской улице есть трикотажная фабрика товарищества «Гюльчатай». Возьми Шабанова и пройди с ним эту фабрику вдоль и поперек, пролезь все дыры, наизнанку ее выверни. Там что-то есть! Чую!
– Думаешь, там держат Катю?
– Не знаю, – не сразу сказал дед Мазай. – Но очень уж подходящее место… Посмотри, что за люди, какую… продукцию выпускают. Сними на пленку всех живых, все, что шевелится. Поглядим, что за личико у этой восточной красавицы… Имей в виду, там должна быть хорошая охрана, пропускной режим. Так что лучше идти в нерабочее время, перед началом смены и выходить после нее.
– Сделаем, товарищ генерал!
– Головеров пусть раздобудет радиотелефон. Связь со мной каждый час… Возможно, в определенный момент потребуется провести операцию по захвату Кархана. Я дам команду.
– Вопросов нет, – озабоченно заключил майор. – Только ты, дед, зря Сычу не доверяешь…
– Я же сказал – Сычу доверяю! – возмутился генерал. – «Брандмайору» не верю. Если в стране полулегально действуют дудаевские спецслужбы и делают что хотят, значит, у нас нет органа государственной безопасности, а есть только люди, из собственного честолюбия исполняющие свой долг. Они партизаны. Почему же и нам не партизанить, если живем как на оккупированной территории?
– Скорее бы на пенсию! – вдруг помечтал Крестинин уже возле порога. – Сесть бы за мемуары! А то в голове уже нет ни одной свободной клетки, все исписал… Башка трещит от мемуаров! Даже первую фразу уже написал на бумаге: «В мои молодые годы мое Отечество напоминало потухший вулкан». Красиво звучит?
– Может, не потухший, а спящий? – предложил дед Мазай.
– А этого никто не знает, спящий или потухший. Человеческая жизнь такая короткая…
Он не успел дослушать Крестинина и выпроводил его за порог, поскольку офицер-порученец позвал к телефону – срочно звонил Сыч. Генерал схватил трубку…
Оказалось, что сегодня утром, услышав сообщение по радио о трагической смерти генерала Дрыгина, упомянутой вскользь среди прочих происшествий за прошлые сутки, бежал из Бутырского следственного изолятора Вячеслав Шутов, бывший майор, бывший аналитик разведслужбы «Молнии», бывший снайпер и бывший начальник тира в «Динамо»…
Еще на вокзале во Владивостоке, скрывшись от милицейской проверки, он пересчитал заработанные деньги, купил билет до Уссурийска на электричку и решил, что это самый подходящий и достойный вид транспорта, чтобы ездить по России. В поездах дальнего следования, в уютных купе с постелью тоже неплохо, однако ведь осатанеешь от тоски, от одних и тех же лиц, вынужденного распорядка дня, а Сане Грязеву хотелось обновления, постоянной смены декораций и многочисленной публики. В электричке же, как в огромном калейдоскопе, ничто не стояло на месте, все катилось, бурлило и сверкало неожиданными, непредсказуемыми гранями и комбинациями. И не требовалось много денег на один прогон от начальной до конечной станции. После Уссурийска дела пошли вообще блестяще. Пока он ждал следующей электрички, поплясал на вокзале, заработал на билет и на полсотни пирожков с мясом и капустой. Единственное, что сдерживало его свободу и руки, был чемодан, за которым приходилось следить во время пляски, поскольку его чуть не украли в Уссурийске, а потом еще присматривать в электричке, чтобы кто-нибудь случайно не прихватил. В чемодане было много хороших и полезных вещей, которые сейчас казались ему бесполезными. Добравшись до Спасска-Дальнего, Грязев все-таки решился избавиться от груза: переоделся в новый «концертный» костюм, надел на себя все пять рубашек, которые были, в купленную небольшую сумочку на ремне положил электробритву, чечеточные туфли, полотенце, мыло и зубную щетку. А чемодан с лишними вещами поставил на вокзале у стены и «забыл».
Первое ощущение от такого пути было потрясающим: за каких-то тридцать – сорок минут он зарабатывал столько денег, сколько не зарабатывал их никогда в жизни за такой срок. Он не знал, каковы доходы у музыкантов и певцов в подземных переходах Москвы, и полагал, что небольшие, судя по тому, как избалованный, ко всему равнодушный и озабоченный москвич шел мимо, и лишь приезжие останавливались послушать, поглазеть на столичную культуру подземелий и бросить в шапку (чемодан, коробку из-под обуви или просто на асфальт) какую-нибудь мелочь. На Транссибирской магистрали народ был совершенно иной – любопытный, изголодавшийся, заводной и невероятно щедрый. Скорее всего, потому, что за последние десять лет напрочь отвык и истосковался по национальным ритмам и танцам, сбитый с толку и замордованный африканскими ритмами и эротическими танцами под эти ритмы. И ладно бы, если на танцора-одиночку собиралась пожилая консервативная публика; более всего поражало, что зрителем была молодежь, чуткая к красоте и виртуозности исполнения, особенно заводная и чувствительная. В одной общей толпе были и нищие студенты, и «новые русские» в цветных пиджаках «с чужого плеча», и остепенившиеся, разбогатевшие комсомольцы в строгих костюмах. В Хабаровске навалили столько денег, что можно было взять билет на самолет. Пришлось еще полчаса плясать на «бис», после чего в круг вырвалась какая-то подвыпившая парочка и стала исполнять классическую цыганочку. Тем временем Саня Грязев прихватил кепку, туго набитую деньгами, и скрылся: опять к нему направлялись два стража порядка с дубьем.
Вместо авиабилета в Хабаровске он купил бубен с бубенцами и деревянные ложки: входил во вкус, появлялось желание обогащать свои выступления, вносить разнообразие, оттачивать виртуозность. Он ехал, давал концерты и снова ехал, не уставая восторгаться тем, насколько велика была Россия. Скорость передвижения на перекладных почти в точности соответствовала скорости движения на лошадях, и потому земля проплывала перед глазами медленно, в деталях и лицах. Он успевал всматриваться в каждую деревеньку, в полустанок, а в больших городах иногда задерживался на сутки, с изумленным лицом блуждая по незнакомым местам. Несколько раз он пытался устраивать выступления прямо на площадях, причем благотворительные, бесплатные, – просто не выставлял свою кепку. Поразительно, но такой душевный порыв не воспринимался! Люди останавливались, смотрели и старались побыстрее уйти, увести детей. Однако стоило поставить кепку и для затравки бросить туда пару сотен, как интерес публики резко возрастал. Наверное, люди хорошо понимали, что если молодой, лысый и прилично одетый гражданин пляшет за деньги – это нормально: нищета и рынок становились привычными; но если просто так, без причины, у зрителя закрадывалось сомнение, а не сумасшедший ли это? Не больной ли? Не маньяк?.. Иногда же Сане Грязеву хотелось плясать ради того, чтобы развлечься самому и развлечь публику, ибо даже в Сибири уже чувствовалась весна, вскрылись реки, оттаяли вершины холмов, заблестели отмытые окна и глаза людей…
И всю дорогу его преследовало одно странное обстоятельство: где бы он ни появлялся, где бы ни начинал концерты – всюду появлялась милиция, причем вооруженная автоматами, в бронежилетах и с навязчивой задачей проверить документы у Грязева. Он же, ощутив полную волю, уже принципиально не желал показывать свой новый паспорт, выданный взамен удостоверения личности офицера. В Чите его почти взяли на глазах у публики – подошли с трех сторон и ворвались в круг. Толпа было возмутилась, но блюстители порядка вскинули дубинки. Пришлось уронить на пол всех троих и уходить по-заячьи – петлями и сметками. В последний момент чья-то рука всунула ему кепку с деньгами и ремень сумки. После Читы, по всей вероятности, на него разослали ориентировку и недели две не давали покоя, отлавливая на каждом полустанке. Создавалось впечатление, будто он едет по оккупированной стране с полицейским режимом, и это неожиданным образом вдохновляло его, насыщало дорогу романтикой и приключениями. Что-то подобное Грязев испытывал на учебных тренировках, приближенных к боевым условиям, когда ставилась задача пройти насквозь атомную электростанцию, базу Черноморского военного флота, территорию воздушно-десантного полка, оставив в условленных местах кодированные знаки. Ему доставляло удовольствие оставить пластмассовую карточку на столе начальника охраны АЭС или начальника секретной части флота. Он представлял себе их физиономии, когда офицер особого отдела по телефонному звонку вынимал эти карточки и начинал крутые разборки. Грязева, как мальчишку, трясло от задавленного восторга и внутреннего смеха.
Он понимал, что это баловство, ребячье озорство, и не мог удержаться. А еще просто было приятно чувствовать себя неуязвимым и вольным в невольном своем государстве. Читинские ребята, кажется, сильно на него обиделись, хотя ничего дурного им не сделал, а только на пол уложил друг на друга, правда, на глазах народа. Переехав Байкал, как всякий приличный бродяга, Саня Грязев решил пожить денек в Иркутске и даже не стал давать концерт на вокзале, да к нему еще возле поезда прицепился милиционер, предлагавший пройти с ним в линейный отдел. Пришлось запереть его в пустом киоске возле ступеней подземного перехода, а он с испуга начал стрелять в фанерные стенки, поднял шум на весь город, так что Грязев вынужден был оставить железную дорогу с электричками и пересесть на автобус до Черемхово. Там он снова перебрался в пригородный поезд, поплясал на станции Зима, потом почти без эксцессов в Нижнеудинске, однако на узловой станции Тайшет, внешне спокойной и неагрессивной, решил дать большой гастрольный концерт – очень уж восторженно принимала публика! К тому же после традиционной чечетки Грязев начал с цыганских танцев, поскольку заметил в толпе цыганят, и тут не стерпел откуда-то взявшийся цыган – молодой, усатый, маслоглазый, в настоящей рубахе из красного шелка, в мягких хромовых сапожках на высоком подборе. И схватились они в перепляс, завели друг друга, разожгли соперничество, как в драке. Саня не заметил в пылу, как среди зрителей оказался целый табор – цветастый, шальной, глазастый. Забренчали бубны, захлопали в такт ладоши и даже скрипка запела! Больше всего Грязев боялся за свои чечеточные туфли: они были лаковые, тоненькие, красивые, но для серьезной пляски едва ли годились, поскольку купил их из-за твердой подошвы по случаю в магазине похоронных ритуалов. Вся надежда оставалась на то, что они отечественного производства и сделаны не из картона, а настоящей кожи. Да ведь клей-то у нас плохой! У цыгана же сапоги – залюбуешься, каблук наборный, на медных шпильках, с подковкой. Где и взял, гад, такие?
Полчаса отплясали – ему хоть бы что, а у Сани лысина мокрая и все три оставшиеся рубахи насквозь. Стало ясно, что цыгана умеренным темпом не взять, надо предлагать свой, стремительный, с разорванным ритмом, как при штурмовой атаке, с элементами гимнастики и акробатики, подавить его психологически, а то он все норовит кружиться да руками махать, как цыганка. Сначала у него глаз еще сильнее заблестел, начал было тягаться – то на «мостике» попляшет, то вприсядку пойдет с прихлопами по полу, но таборный «оркестр» хоть и свой ему был, однако непроизвольно убыстрял темп вслед за Грязевым. Он же требовал – еще, еще, еще! И так завел цыган, что они уж и стоять на месте не могли, пританцовывая в экстазе от малого до старого. Что тут началось! Вдруг заплясала вся толпа, засвистела, заухала, и даже бронежилетные менты, стоящие на исходных позициях, хоть и не пустились в пляс, но закачались в такт и будто бы подхватили самозабвенно восторженный напев:
– Най-най-най-най-най-най!..
И сломался цыган! С достоинством сдался – встал на колено и склонил голову. Красная рубаха на спине почернела от пота, волосы черные в сосульку, затуманился масленый глаз…
В тот же миг густой торжествующий ор возреял под вокзальными сводами. И милиционеры, раздвигая толпу, пошли в круг. Неизвестно, ушел бы на сей раз Саня Грязев – за час ни разу духу не перевел, ни на мгновение ни одной мышцы не расслабил, – да вдруг схватила его за руку старая толстая цыганка и, как торпеда, пошла через толпу. Остальные же обступили ментов и такой рев подняли – в ушах зазвенело. А цыганка вытащила его на привокзальную площадь и между машин, мимо каких-то заборов, складов и сараев повлекла прочь от народа. И только приговаривала на бегу:
– Ай, рома! Хорошо пляшешь! Ай, рома! Молодец!
Лишь по дороге, когда уже отдышался, вспомнил, что оставил на вокзале и сумку с нехитрыми инструментами, и кепку с деньгами. Да уж поздно было возвращаться назад. Между тем цыганка вывела его на окраину города, за железную дорогу к огромному лесоскладу, и только тут пошли шагом.
– Ай, рома, хорошо плясал! Горячее сердце у тебя! Душа вольная!
– Куда же ты ведешь меня, мать? – спросил Саня.
– А в табор, рома! Цыган посмотришь, тебя цыганам покажу! Ай, рома, молодец!
Это были настоящие цыгане, кочующие на лошадях, певчие, пляшущие, хотя и торгующие попутно на собственное пропитание. За лесоскладом у них палатки стояли, импортные, разноцветные, яркие, и повозки укрыты таким же брезентом. На палаточных веревках сушилось детское белье, рубахи, юбки; неподалеку паслось десятка два лошадей, только травы еще не было, поэтому старый цыган разносил им сено с телеги. Виделось в этом таборе что-то древнее, истинно кочевое – может, ветер вздувал шатры точно так же, как тысячу лет назад, или кони бродили такой же неторопливой поступью и дым костра курился и реял над станом. И вместе с тем отовсюду выпирала кричащая современность: повозки на автомобильных колесах, упряжь из авиационной брезентовой ленты и эти яркие туристические палатки с рекламными надписями «Мальборо», «Кэмел». Похоже, все цыгане промышляли в городе, среди палаток виднелись две женщины да старик возле коней. Старуха, что привела Грязева, велела ему подождать возле костра, сама же вошла в одну из палаток и пропала минут на пятнадцать. Тем часом от города потянулись цыгане небольшими, скорее всего семейными группами. Шли весело, кричали и разговаривали громко и, увидев Саню, что-то радостно говорили на своем певучем и каком-то развинченном языке, но восклицали по-русски:
– Ай, рома, молодец!
Лишь потом он случайно узнал, что табор восхищался не только его пляской и победой над удалым цыганом. Под шумок, под стук каблуков и оцепенение восхищенной публики ловкие на руку кочевники основательно почистили карманы, сумочки и чемоданы зрителей. И тогда же он усомнился в своей победе – уж не спектакль ли разыграли эти кочевые артисты?
Но это случилось потом… А в тот вечер все время ликующие цыгане устроили праздник – общее застолье у одного большого костра. На землю натрясли толстый слой сена, вынесли из палаток и расстелили сначала войлочные маты, затем ковры, посередине же, совсем по-домашнему, положили клеенки и буквально навалили горы снеди – от свежих помидоров до мохнатых плодов киви, от вареных куриц до салями. Но при этом очень мало вина, всего несколько бутылок рислинга. Когда все было готово, из палатки вышел еще не совсем старый, однако болезненного вида цыган с пегой бородой и серьгой в ухе. Ни настоящий цыганский наряд его, ни походка, ни голос не могли создать у Грязева образ старшего в таборе, барона, поскольку в нем чувствовалась глубокая интеллигентность и европейское образование. Не серьга бы, не богатая бордовая рубаха с золотым шитьем, можно было подумать, что это стареющий профессор, декан какого-нибудь гуманитарного факультета. Ему принесли раскладной стульчик, усадили в центр застолья и лишь после этого расселись сами. Старуха показала Грязеву место напротив барона. Тот что-то негромко спросил по-цыгански, и весь табор ответил весело и дружно. Сразу засмеялись, заговорили, изредка вновь восклицая:
– Ай, рома, молодец!
И тот молодой маслоглазый цыган кричал со всеми в общем восторге, будто самолюбие его никак не пострадало, – ни обиды, ни даже спортивной злости. Цыганка налила две чайные чашки вина, подала сначала Грязеву, затем барону.
– Ну, здравствуй, гость! – с мягкой торжественностью сказал «профессор». – Мои люди говорят, ты Григория переплясал. Впервые вижу человека, который бы заставил его поклониться. Если бы русский с цыганом работать взялись – тут бы я поверил, а в пляске редко кто цыгана одолеет. Выпьем-ка за твое здоровье, гость! Да покажи старику, что умеешь.
– Покажи, рома, покажи! – загудел табор.
Саня Грязев отпил вина, поставил чашку и с тоской глянул на свои туфли. От прогулки по сырой весенней земле они размокли, подрастянулись и могли вот-вот развалиться. Возле носков подошва уже опасно дышала…
– А дайте-ка мне ваши цыганские сапоги! – сказал он. – Неловко мне лысому да еще босому плясать перед табором!
– Молодец, рома! – засмеялись и закричали цыганки, давно посматривающие на лысину. – Ай, молодец!
Ему принесли несколько пар – от офицерских хромовых до шитых на заказ, с подбором и подковками. Как не жаль было, но не подошли заказные из-за подъема. Грязев надел поношенные офицерские, смял голенища, взбил чечетку на земле – вроде не трет, не давит…
– Эх, чавела! – распаляясь, крикнул он и легкими, но выверенно-четкими движениями пошел в круг.
Не ударить бы в грязь лицом! Все-таки не каждый день в таборе плясать доводилось… А цыганский «оркестр» уже запристукивал, потянул мелодию танца, покатил медленную зыбучую волну – всколыхнулся вечерний простор. Земля была еще мягкая, влажная, прессовалась под каблуками, тут дробью не возьмешь, не очаруешь слух ритмом; тут вся красота в точности и пластике движения, в постепенном наращивании темпа – от падающего первого камешка до горной лавины, которая должна заполнить, захватить все пространство. Через минуту он привык к сапогам, еще через две – к земле, и пошло дело! А тут еще маслоглазый соперник отнял у молодой цыганочки настоящие кастаньеты и стал точно выстукивать ритм, подстегнул ноги, вдохновил ликующие мышцы.
И разошлась, развернулась душа! Замелькал перед глазами цветастый смеющийся народ, заискрились десятки огромных черных глаз. Плясать в таборе оказалось легче! Энергия танца воспринималась мгновенно и так же мгновенно отдавалась назад, усиленная втрое. Странным возбуждающим «допингом» вдруг показались ему яркие палатки, кровли повозок, пестрые одежды и особенно огромный, бурно пылающий костер, излучение которого доставало лица, плеч, рук и как бы насыщало дополнительной энергией каждое движение. Цыганская мелодия, с которой, можно сказать, рождался и умирал русский человек, была так же близка, горяча и понятна, как горящий огонь. Только в ритме, только в танце пробуждались и начинали жить вновь древние, глубинные корни, связывающие эти два народа. И потому цыгане любили петь русские романсы, а русские – плясать цыганочку. И учиться этому не было никакой нужды ни тем ни другим.
Эх, чавела!
И вдруг что-то нарушилось! Нет, ритм не сбился, а темп все еще рос, однако некая чужеродная нота вписалась в гармонию и начала стремительно разрушать ее, как ползучая трещина разрушает хрустальную вазу. Этого еще никто не заметил, ибо возникший диссонанс был пока скрытым и ощущался лишь мышцами, но он набирал силу вместе с убыстряющимся темпом. Саня Грязев неожиданно перехватил маслоглазый взгляд цыгана с кастаньетами и вмиг все понял: улыбаясь, недавний соперник выстукивал ритм и умышленно «отрывал» последний такт. Эх, чавела! Приучил, притянул к себе слух и теперь медленно готовил провал… Грязев выбрал позицию, молниеносно крутанул «колесо» и носком сапога достал кастаньеты, выбил из рук и успел поймать их в воздухе.
– Молодец, рома! – закричали цыганки, и в тот же миг в кругу оказалась девочка лет тринадцати, тоненькая, почти еще безгрудая, но уже грациозная и гибкая. Ах, выросло бы у нее что-нибудь поскорее! Вот уж бы подразнила, вот бы уж было на чем звенеть монистам! Однако до чего же глубокие и вишневые были глаза!..
Только почему же так поздно вышла? Темп достиг своего апогея, далее мог быть только взрыв мышц или полет в полной невесомости…
Табор ликовал, по-театральному аплодировал, женщины махали платками. Саня Грязев встал на колено перед девочкой, поцеловал край одной из бесчисленных ее юбок и вручил кастаньеты.
– Молодец, рома, – сдержанно сказал барон. – Вижу, были у тебя в роду цыгане. Хотя ты и не похож совсем…
– Не было, – признался Саня Грязев. – Я родился в Костромской области.
– У цыган нет областей, вся земля наша, везде побывали, – тихо засмеялся он. – Ну, если не сто лет назад, так пятьсот. Кровь свою память имеет, человек – свою. Да в том ли дело?.. Пойдем ко мне в шатер!
В большой шестиместной палатке, утепленной войлочными паласами и коврами, горела лампочка от автомобильного аккумулятора, топилась маленькая чугунная печь, установленная на железный лист. Барон усадил Грязева на раскладной стульчик к низкому черному столику, сам сел спиной к печке.
– Простыл я недавно, – вдруг пожаловался он. – Вчера на флюорографию ездил – пневмония. Придется с неделю полежать…
Старуха принесла бутылку вина, опустила его греть в горячую воду, поставила закуски на стол. На улице уже начиналось веселое пиршество, и гул громких голосов сквозь войлок напоминал крик далекой журавлиной стаи.
– Что же вы так рано тронулись в дорогу? – спросил Грязев, желая начать разговор о цыганской жизни. – Холодно кочевать в кибитках-то…
– А мы в кибитках не кочуем, – признался барон. – Постоим неделю, соберем денег, откупим пару вагонов: один плацкартный, другой – грузовой. И до Красноярска. Там еще постоим…
Саня Грязев рассмеялся своим мыслям:
– Мне показалось, вы как в прошлые времена…
– Да времена-то теперь не прошлые…
– Зачем же тогда кибитки, лошади?
Барон хитро улыбнулся, но глаза оставались умными, проницательными и доверчивыми.
– Любопытный ты, рома!.. Пойдем с нами, вот и узнаешь зачем.
– С вами? – изумился Саня. – Я слышал, вы чужих не берете!
– Это когда-то не брали… Четыре года назад с нами хиппи кочевали. Два месяца вытерпели. Но они – люди пустые, ни работать, ни танцевать. А ты хорошо пляшешь! И слух у тебя тонкий, и глаз острый. Почти цыган. При твоей ловкости научить бы тебя коней воровать…
– Где же их воровать, если и коней-то нет…
– Было бы кому, а кони найдутся.
– Зачем же они, коль вы на поездах кочуете?
– Да чтобы душа цыганская не пропала! – неожиданно загоревал барон. – Чтобы кровь заиграла, когда коня берешь. Это ведь что плясать, что воровать коня – одинаково душа горит. А мои люди нынче, кроме как карманы почистить, ничего больше не умеют. Цыгане-то не карманники, не мелкие воришки… Давай-ка, рома, выпьем вина! Говорят, нельзя, когда антибиотики колют, да где наша не пропадала! Хорошо ты пляшешь!
Он сам налил ркацители в чайные чашки, попробовал, теплое ли, и чокнулся с Грязевым. Мутные, болезненные глаза его просветлели. Барон выпил до дна, погасил назревающий кашель.
– Григорий тоже хорошо пляшет. Но воровать коней не умеет. Взять не может, шарахаются кони… Мы теперь покупаем коней. Коней покупаем – тряпки продаем. Тряпки продаем – коней покупаем. Цыганская ли это жизнь?
Грязеву показалось, слеза мелькнула в темных цыганских глазах, да «профессорское» воспитание сдержало ее, высушило внутренним огнем.
– Далеко ли кочуете? – спросил Саня, чтобы поддержать разговор.
– Гостя обмануть – Бога обмануть. – Он поднял сухие, воспаленные глаза. – Скажу тебе: в последний раз кочуем. Мой дед привел этот табор из Сербии. Говорил, и тогда уж были плохие времена для цыган, от немцев ушли в Россию. Отец откочевал на Дальний Восток, думал, там будет воля… А нет теперь воли в России, ни для русских, ни для цыган. Я повел людей назад, да только теперь в Сербию не уйти, опять война там… В Краснодарский край пойдем, привыкли мы жить у моря. Пойдем с нами? Если плясать умеешь, значит, вольный ты человек, и вижу, холостой, одинокий. Невесту тебе дадим, женим на цыганке. Та, что плясала с тобой, – нравится? Небось думаешь, молодая совсем… По нашим обычаям – невеста, четырнадцатый год пошел. Не смотри, что как тростинка, радуйся. Не заметишь, как растолстеет…
Сначала Сане Грязеву показалось, что голос барона слаб от болезни, но вдруг услышал в нем глубокую, почти не скрываемую иную боль, скорее даже привычную горечь, уже не замечаемую стариком. Барон медленно стянул сапоги и надел теплые белые бурки.
– Неужто стало так худо цыганам? – спросил Грязев, не выдавая растроганных чувств.
– Хорошо, что спросил, – отозвался тот, будто ждал этого вопроса. – Людям стало хорошо – цыганам плохо. Торговать начали. Когда водки не было – водкой, сахара – сахаром. Ничем не брезговали, «цыганторг» открыли. Машины купили, дома… Говорили: еще год-два такой воли – и своим лошадям золотые зубы вставим. Да как цыганам-то мозги вставить? Пить научились, а веселье утратили. Зачем цыгану пить, если он без вина всегда весел и пьян? Мы же народ веселили и сами не скучали, хватало радости. А нет радости – пропал цыган.
– Но в вашем таборе весело! – попытался развеять невеселые мысли Саня Грязев. – И народ жизнерадостный, живой!
– Это потому, что вместе собрались, истосковались по цыганский жизни. Да надолго ли? Придем в Краснодар, к морю – разбредутся, снова купят дома, машины, и я их не удержу. Земли у нас своей нет, и зачем цыгану автономия? «Цыганская республика» – звучит-то как смешно… А вот погоди, еще и такой вопрос встанет! Будут землю требовать. Только это уже не цыгане.
В таборе пир шел вовсю, уже заиграл «оркестр» – начинался свой, внутренний концерт. Грязев услышал стук кастаньет, и сразу же вспомнилась девочка, что танцевала с ним на «просмотре»… Табор веселился, а барон тускнел все больше, и в этот час, кроме Грязева, утешить его было некому.
– Прости, отец. Не мне, конечно, советы давать…
– Нет, гость, говори! Посоветуй, – слегка оживился барон. – Ты умно пляшешь, красиво… Говори!
– Не лучше ли назад, в Индию откочевать? Может, такое время настало, когда возле матери только и можно спастись. Да и отсюда ближе, чем до Краснодара, тем более до Сербии.
– Понимаю, о чем ты сказал, – после паузы вздохнул барон. – Долго меня эта мысль грела… Да ведь наши предки не зря вывели оттуда цыган. Мы от Индии давно оторвались. И к славянам приросли, так что не оторваться… Что тут еще говорить? Гостя обмануть – Бога обмануть… Помнишь, когда в драке под дых дадут? Отлежишься, отдышишься, встанешь и снова… Ты ведь дрался, вижу. Кто хорошо пляшет, тот и дерется хорошо. Так вот, дали России под дых, и потому свело русский дух. Но Россия-то отдышится, встанет – цыганам больше не подняться. – Голос его как-то незаметно выровнялся, приобрел силу. – Путь нам один, брат, – ассимилироваться, раствориться в русском народе. Может, повеселеет Россия, станет немного похитрее, побойчей, может, снова запоет, запляшет… Хоть так не пропадет цыганская кровь!
Он налил вина, вручил чашку Грязеву. На улице пели слаженно, красиво, раздольно, однако с цыганской печальной яростью. Барон заметил его внимание, улыбнулся, отхлебнул горячего вина.
– Если народ утратил свой образ жизни, это, брат, уже не народ, а фольклорный ансамбль. Потому и поют так!.. Пойди к ним, потанцуй с цыганами и оставайся у нас. Присмотрись к невесте. Понравится, так женим, и ступай своей дорогой. Лучшей жены, чем цыганка, тебе все равно не найти. Красивые дети у вас будут! Волосы не такие белые, как у тебя, да зато лысых не будет. Иди, веселись! Не гляди, что я хмурый. Мне приходится всю таборную тоску на себя брать, чтобы веселились цыгане. Так заведено было. Священники грехи берут на себя и замаливают, а я – тоску…
В эту ночь он не мог уснуть, хотя положили его в утепленную кибитку в меховой спальный мешок: гудели этой ночью перетруженные ноги, звенели мотивы цыганских песен в голове, но не те, что он слушал до трех часов утра возле костра, а как бы иные, избавленные от «фольклорности» – некая тихая, безмерная печаль. Решение остаться у цыган в таборе пришло внезапно и сразу стало твердым, определенным, так что мгновенно развеялись малейшие намеки на сон. Грязев выбрался из кибитки, подавляя возбуждение, постоял с поднятыми к небу руками, посмотрел на гаснущие звезды. Хотелось немедленно сообщить об этом барону, однако было еще рано, пятый час… Он тихо побрел к коням, стоящим неподалеку от табора: там всю ночь дежурил сторож – единственная бодрствующая душа, и охранял он не только лошадей, но и всех спящих соплеменников.
Лошади стояли настороженные, пофыркивали, прядали ушами, вслушиваясь в предрассветную тьму.
– Будто волчью стаю почуяли, – шепотом сказал сторож, пожилой невысокий цыган. – Возле города волков нет, значит, люди идут, много людей. А какие люди ночью к цыганскому табору ходят? Только милиция…
Логика сторожа была железной.
– Это меня ищут! – уверенно сказал Саня Грязев.
Оказалось, в эту ночь не спал и барон, топил печку, смотрел в огонь и, кутаясь в полушубок, тихо покашливал.
– Что, рома, не спится тебе? – спросил он ласково.
– Решил я пойти с вами, отец, – несколько торопливо признался Грязев.
– Я ведь тебя не тороплю, – заметил барон. – И из табора не гоню…
– Ты-то не гонишь, но к табору какие-то люди идут. Скорее всего облава, за мной…
Барон даже не шевельнулся, бровей не поднял. Спросил, глядя в огонь:
– Признайся мне, что за слава летит за тобой? За что тебя ловят?
– Откровенно сказать, ни за что. Возможно, документы хотят проверить, узнать, кто такой, почему пляшу на вокзалах. – Грязев усмехнулся. – А я не хочу, чтобы спрашивали меня, проверяли! Без всякой причины, не хочу, и все! Я вольный человек!.. Так что я привел за собой милицию, я и уведу!
– Мы тебя спрячем. – Барон встал и положил руки на плечи Грязева. – Никакая милиция не найдет.
– Извини, отец, не хочу я прятаться! Лучше поиграю с ними, подразню. Мне это в удовольствие! А табор я в Красноярске найду.
Барон скинул с плеч полушубок и вдруг рывком сорвал с себя рубаху:
– На тебе, носи! Ты цыган! Не по крови, так по духу, иди с Богом! Жду тебя в Красноярске! Иди, рома! – И вдруг распрямился, выгнул грудь, ударил себя по голенищам сапог: – Иди! Иди, рома! Мне весело стало!
В таборе уже было легкое шевеление, между палаток и кибиток сновали бесшумные тени: что-то прятали, убирали подальше от глаз. Саня Грязев незаметно выскользнул из табора – коней уже куда-то увели, пространство до железнодорожной насыпи было еще сумеречным, хотя в светлеющем небе четко обозначился горизонт. Подойти незаметно к табору можно было лишь со стороны насыпи либо в обход лесосклада. Скорее всего облаву начнут с двух сторон. Значит, руководство милицейской операцией должно находиться где-то в середине… Не скрываясь, Грязев пошел в этом направлении и скоро очутился на подъездных путях к лесоскладу. За насыпью стоял темно-зеленый омоновский автобус, а бойцы, по всей вероятности, рассредоточились вдоль нее, чтобы перекрыть пути отхода в сторону города. Они уже должны были видеть Грязева.
Саня прошел по шпалам, выбрал ровное место между рельсов и вытащил бубен из сумки: цыгане принесли и вернули ему оставленные на вокзале вещи. Встряхнув над головой бубен, Саня отбил себе ритм и пошел плясать. Если ОМОН рассчитывал заодно потрясти табор, то сейчас он путал все планы. Внезапного налета никак не получится, и обманчивая тишина вокруг говорила лишь об одном: решали, брать танцора или все-таки проводить всю операцию.
Решили брать танцора…
Слева и справа возникло шевеление, и в тот же миг тишину взорвал неприятный лающий голос из автобусного репродуктора:
– Стоять! Не двигаться! Руки за голову!
Грязев вскинул руки, позвенел бубенцами и на мгновение замер. Две фигуры в масках выскочили на насыпь – это была их ошибка, результат плохой подготовки, и Саня немедленно ею воспользовался, прыгнул под откос и не скрываясь помчался к автобусу. Оттуда запоздало выскочила еще одна «маска» с пистолетом в руке и в тот же миг лишилась оружия. Выбитый пистолет улетел куда-то на черную, разбитую гусеницами землю, а сам омоновец – под автобус.
Путь был свободен до самого города…
Когда он уже скрылся из виду, растворившись в сумерках над темной весенней землей, за спиной треснула короткая очередь. Стреляли для острастки или кто-то споткнулся в темноте – небрежное обращение с оружием. В ответ Грязев побренчал бубном и взял неспешный темп, рассчитанный на длинную дистанцию. Как всякий «заяц», он долго водил охотников по окраинам города, петлял по пустырям, забегал в жилые кварталы, заставлял их гоняться друг за другом и, когда они теряли след, поджидал кого-нибудь, подпускал на выстрел и плясал под бубен да еще под треск злых автоматных очередей. Похоже, бойцы получили приказ бить по ногам, поскольку чаще всего пули ковыряли землю и редко секли головой прошлогодних густых репейников. Наконец, охотники подустали и сменили тактику. Если кто-то из них обнаруживал «зайца», пляшущего на виду, падал в укрытие и по радио пытался навести на него своих товарищей, взять в кольцо или ножницы. Ребята в ОМОНе оказались молодые, азартные и от этого постоянно делали ошибки. Они давно уже убедились, что «заяц» не вооружен, но отчего-то боялись сближения, возможно, думали, есть граната. Поэтому Саня Грязев легко вырывался из всех окружений. И когда сожгли по нему сотни полторы патронов, когда взошло солнце и надоело плясать казачий спас – танец, надо сказать, веселый, но специфический, – Грязев обратился в «волка». Он сделал круг и лег возле своего следа. Уставшие бойцы впадали в отчаяние и теряли даже природную осторожность. Парень попался ему здоровый, но рыхлый, с «сырыми» мышцами. Саня отобрал у него автомат и радиостанцию, кое-как замкнул наручники на запястьях – кольца почти не сходились. Из автомата он вынул затвор, бросил неподалеку в траву, чтобы можно было найти, и включил радиостанцию.
– Позывной командира, быстро! – приказал он.
– Не скажу! – по-партизански заявил боец.
– Как хочешь, – бросил Саня и позвал в микрофон: – Командир! Эй, командир, ты что, спишь, что ли?
– Кто это? Кто, мать вашу… – Судя по привычке круто материться, командир побывал либо в Афганистане, либо на Кавказе.
– Это я, командир, – сказал Грязев. – Успокойся и слушай внимательно. Твои бойцы стараются, но ты действуешь очень плохо. Отвратительно! Хватит гонять людей и жечь патроны. Труби общий сбор, пусть ребята отдохнут, а ты готовь задницу, понял? Будет хорошая вздрючка. Тебе сколько до пенсии?
– Ты кто такой?! – Голос командира дребезжал от гнева. – Ты кто, сука? Все равно не уйдешь!.. Достану! Кто ты?!
– Проверяющий, – спокойно сообщил Саня. – Идет негласная проверка подразделений ОМОНа. Так что готовься, командир. Привет! Конец связи! – Он выключил радиостанцию, сунул ее в карман бойца. – Тебя как зовут?
Боец выслушал радиодиалог и сидел теперь поникший, придавленный собственным весом.
– Гамов, Костя…
– Вот что, Костя Гамов, – сказал Саня, подавая ему ключ от наручников. – Запомни: хорошему вояке надо много учиться, много думать и мало есть. Посмотри на себя, ты же жиром заплыл, а тебе всего двадцать пять. Загонят тебя, Костя, в «горячую точку» и грохнут на третий день или, хуже, в плен возьмут. Ты же ходячая мишень, а не боец! Хочешь быть профессионалом – учись и думай!
– Нас учат толпы на улицах разгонять, – вдруг со злостью признался омоновец и отвернулся.
– Ну хоть стрелять-то учат?
Боец лишь дернул головой и стал отмыкать наручники. В глазах его стояли слезы, боялся моргнуть…
– Доложишь командиру, что попадал ко мне в плен, – жестко сказал Грязев. – Позор – это когда на него позрят, понял? – И, не оборачиваясь, зашагал к железнодорожной насыпи…
Пешком он ушел до Бирюсинска, там сел «зайцем» на проходящий поезд, рассчитывая в этот день добраться до Канска, однако на столике полупустого плацкартного вагона нашел вчерашнюю газету…
Под небольшой рубрикой «Пожары», непроизвольно притянувшей внимание, сообщалось о пожарах в Москве и Московской области за истекшие сутки – причины, сумма ущерба, погибшие… И вдруг глаз зацепился за фамилию, от которой сразу же пересохло во рту и стали тесными хромовые цыганские сапоги…