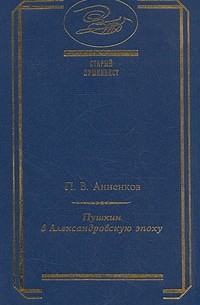Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3
Места, присужденные цензором к исключению из прозаических статей и заметок Пушкина, большинство которых тоже не попало в посмертное издание 1838–1841 годов.
<левая колонка>
К исключению.
На об. стр. 12 (по рукописи), в статье «Заметка на сцену из Фонвизина: Разговор у княгини Халдиной» Пушкин, разбирая характер Сорванцова, одного из действующих лиц этой сцены, говорит:
«Он продает крестьян в рекруты и умно рассуждает о просвещении. Он взяток не берет из тщеславия и хладнокровно извиняет бедных взяткобрателей. Словом, он истинно русский барич прошлого века».
<правая колонка>
Объяснения издателя.
Этот разбор неизданной сцены фон-Визина написан Пушкиным в 1831 году и тогда же напечатан в «Литературной Газете» Дельвига. Сцена вошла в состав Смирдинского издания фон-Визина. Как она, так и разбор Пушкина, известны всем более двадцати лет, да и самое место, кажется, содержит осуждение поступков выдуманного лица и злоупотреблений фон-Визинского времени, не имеющего никаких отношений к настоящему. Такие злоупотребления и тогда преследовались публикою в комедиях и сценах.
(Место восстановлено по приговору комитета, но осуждение его предварительною цензурой опять свидетельствует, что в ее практике заметки, свободно являвшиеся на свет в 1831 году, уже возбуждали тревогу, хотя бы касались и таких явлений, с которыми боролось само правительство).
<левая колонка>
К исключению.
На об. стр. 67 (рукописи) отрывок из письма Пушкина к Погодину и замечание сего последнего. Поводом для того и другого служило стихотворение: «Герой».
Письмо Пушкина:
«Посылаю вам из моего Патмоса апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в «Ведомостях»; но прошу вас и требую именем нашей дружбы – не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моею рукой переписанную».
Замечание Погодина:
«Я напечатал стихи тогда же в «Телескопе» и свято хранил до сих пор тайну. Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением после многозначительного «Утешься»: «29 сентября 1830», есть день прибытия государя императора в Москву, во время холеры».
<правая колонка>
Объяснения издателя.
Место это требует пояснения. Пушкин написал в 1830 году патриотическое стихотворение «Герой», где удивляется великодушию государя императора, посетившего лично Москву в самое развитие там холеры. Стихотворение напечатано было тогда в журнале «Телескоп», а по смерти автора – в издании его «Сочинений» 1838 года (том IX, стр. 218), с тем примечанием г. Погодина, которое тут изложено. Таким образом оно уже имело и имеет высочайшее дозволение на перепечатку его, да и скрыть благороднейшее чувство удивления к поступку государя, вырвавшееся бескорыстнейшим образом у Пушкина, было бы оскорбительно для памяти последнего.
(Оба текста были, конечно, восстановлены, но промах, почти антиправительственный, со стороны предварительной цензуры поставлен был ей на вид главным правлением, как мы слышали, и много способствовал к устранению ее доводов, которыми она защищала свои приговоры, Такие противоправительственные запрещения, хоть и менее яркие, чем в настоящем случае, цензура делала тогда сплошь и рядом).
<левая колонка>
К исключению.
На стр. 3 (рукописи), выписка из предисловия к поэме «Руслан и Людмила», напечатанного при втором ее издании (1828):
«Долг искренности требует также упомянуть о мнении одного из увенчанных первоклассных отечественных писателей, который, прочитав «Руслана и Людмилу», сказал: «Я тут не вижу ни мыслей, ни чувства, вижу только чувственность». Другой (а может быть и тот же) первоклассный отечественный писатель приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом:
Мать дочери велит на эту сказку плюнуть. 18 февраля 1828».
<
правая колонка>
Объяснения издателя.
Все это место из предисловия к «Руслану», издания 1828 года, относится к г. Каченовскому, которого Пушкин иронически называет первоклассным писателем, и который постоянно нападал на все произведения Пушкина. Выпуском этого места обезобразится весь отрывок, известный тоже уже более пятнадцати лет и который уже несколько раз был перепечатываем в журналах.
(Отрывок прошел благополучно, но здесь любопытны причины, заставившие издателя отнести пушкинский намек на Каченовского. Вообще трудно сказать теперь, кого подразумевал Пушкин в своей заметке, но если позволить себе догадки, то скорее можно думать, что она относилась к маститому уже тогда и не совсем благорасположенному к поэме И.И. Дмитриеву. Цензор видимо руководим был мыслью, при запрещении отрывка, что первоклассный отечественный писатель, кто бы он ни был, должен состоять под покровительством распоряжения, не позволяющего критических отношений к образцовым писателям, и тогда возникала необходимость отыскать менее знаменитое имя для того, чтобы согласить комитет на удержание пушкинской заметки вполне. Каченовский сделался перед главным правлением цензуры невольною жертвой безнравственной борьбы, которая столько лет велась между писателями и толкователями цензурного устава. К такого рода уловкам и сокрытиям вынуждены были тогда прибегать все редакторы журналов и все писатели, без исключения, что и составляло самую безобразную часть их сношений с цензурой).
<левая колонка>
К исключению.
На стр. 216 и 217 следующая отдельная заметка:
«Иностранцы утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d'honneur), очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри. Юный Феодор, уничтожив сию спесивую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решились Иоанн III, ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов».
<правая колонка>
Объяснения издателя.
Этот отрывок из «Мыслей» Пушкина, напечатанных в «Северных Цветах» 1828 года, во всем схож с тем, что всякий ученик может слышать от учителя истории в гимназическом курсе. Здравомыслие Пушкина еще обнаруживается тут весьма замечательным образом посредством сравнения безумства местничества с безумством какого-нибудь point d'honneur, который, несмотря на предписание рассудка и самого закона, вооружает людей для поединка и смертоубийства.
(Мысль Пушкина от 1828 года не оказалась опасною и для публики 1853 года и была пропущена).
<левая колонка>
К исключению.
Из возражения Пушкина на статью г. Броневского об «Истории Пугачевского бунта». В этой антикритике Пушкин говорит на стр. 132 (рукописи):
а. «Политические и нравоучительные размышления» коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий. Например..»
b. Текст Броневского, приводимый Пушкиным в подстрочном примечании для примера пошлых размышлений своего критика:
«Нравственный мир, также как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежит к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным, ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она весте с тем доказывает, как низко может падать человек, и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу сию из моего труда!»
<правая колонка>
Объяснения издателя.
Весь параграф (а) принадлежит к полемике Пушкина с г. Броневским. Место о Пугачеве (параграф b) принадлежит г. Броневскому, и как он приводил места из Пушкина, казавшиеся ему слабыми и ничтожными, так и Пушкин пользуется правом такового же разбора в отношении к своему критику. Для отстранения всякой двусмысленности следует, может статься, выпустить первые два прилагательные и начать статью так: … «Размышления, коими» и пр.
(К счастью, никаких выпусков на этот раз не понадобилось, потому что главное правление, дозволившее все место, приняло на себя работу успокоить сомнение представителя цензуры относительно возможности пошлых размышлений политических и нравственных, сомнение которое и было поводом к исключению пушкинской заметки и горячо, как мы слышали, им отстаивалось. Любопытно, что наравне с Пушкиным должен был пострадать и текст Броневского, ибо и его тирада, взятая из критической статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» 1835 года, тоже приговорена была к устранению. И судья, и подсудимый одинаково оказывались в неправильном положении перед цензурой. Правда, что этим способом устранялась вообще литературная полемика, которой всего более и боялась цензурное ведомство).
<левая колонка>
К исключению,
В статье: «Российская академия» два места:
а. Выписка, которую Пушкин делает из журнала: «Собеседник любителей русского слова» 1783 года, где находились вопросы фон-Визина и ответы на них императрицы Екатерины II, и которая гласит:
«Вопрос фон-Визина: Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие? Ответ: Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имени».
«Сии ответы», прибавляет Пушкин, – «писаны самою императрицей».
b. Следующее место о Карамзине:
«Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли «О древней и новой России» со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы, прочел и остался по прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя, и благородство патриота…
<правая колонка>
Обьяснения издателя.
Эти два места из статьи Пушкина, напечатанной в «Современнике» его собственного издания 1836 года и, стало быть, уже знакомой всей русской публике, весьма различны по значению своему. Первое (буква а) есть выписка из старого журнала, в котором участвовала, как не безызвестно, сама императрица Екатерина II. На дерзкий и неосновательный вопрос фон-Визина она возразила строго, что заставило, как тоже не безызвестно, самого фон-Визина просить прощения в неосмотрительности своей. Это принадлежит к анекдотам ее царствования, повторенным во многих книжках. В этом месте предполагается даже исключить фразу Пушкина: «Сии ответы писаны самою императрицей», которая уже необходима для понимания предшествующих вопросов, не осужденных цензором. Издатель просит об удержании ее. Что касается до второго места (буква b), то, представляя его благоусмотрению начальства, осмелюсь только прибавить, что вся статья Пушкина состоит из 4,5 страниц, с которыми публика уже ознакомлена, как сказано выше. Выпуск этого места, столь важного для священной памяти благословенного государя и для уважаемой памяти историографа был бы, может статься, замечен читающими. Еще основательнее покажется это опасение, по отношению к обоим местам, если вспомнить, что вопросы фон-Визина и ответы императрицы Екатерины II напечатаны уже целиком в издании сочинений фон-Визина 1852 года, а многочисленные отрывки из рассуждения Н.М. Карамзина: «О древней и новой России» приложены в издании его «Истории» г. Эйнерлингом.
(Не смотря на усилия издателя, старавшегося, как видим, для спасения спорных мест, затронуть самые чувствительные стороны в уме судей, успех на этот раз не вполне увенчал его труд. Выписка из журнала 1783 года с щекотливым вопросом фон-Визина была безусловно отвергнута, всего вероятнее потому, что в отрывке этом упоминалось о больших чинах, хотя при вторичном своем появлении после 1783 года в «Современнике» 1836 года он нисколько не обратил на себя особенного внимания публики. Вместе с ним погибла и фраза Пушкина, так необходимая для понимании сущности дела. Той же участи, вероятно, подверглась бы и заметка о Карамзине, если бы не нашла, как тогда было слышно, горячих защитников в лице одного развитого члена главного правления и самого министра народного просвещения, высоко ценивших смелость и патриотическое одушевление суждений Карамзина о делах своей эпохи. Пушкин был чуть ли не первым человеком у нас, заговорившим публично о «Древней и новой России» Карамзина. Дотоле трактат ходил по рукам секретно, в рукописях, как оппозиционный и, по мнению других, даже агитаторский голос не призванного советчика. Пушкин, на кануне своей смерти, собирался вывести записку Карамзина из состояния подпольной литературы, в котором она обреталась, и предполагал напечатать обширные выписки из нее в «Современнике» 1837 года (мысль его приведена отчасти в исполнение продолжателями «Современника» уже после него). Эти сведения мы почерпаем из статьи, напечатанной в том же издании «Сочинений Пушкина» 1855–1857 годов (т. VII, стр. 122–123) часть II), которая также и облегчает работу будущих издателей и библиографов по восстановлению полного текста его прозаических статей, указывая на первоначальные, не искаженные еще им редакции, являвшиеся в журналах и альманахах).
Заключение записки издателя:
Представляя все сии 19 мест на обсуждение начальства, издатель «Сочинений Пушкина» решается повторить свое письменное заверение, что он пользуется данным ему на это дозволением единственно из желания составить издание, которое удовлетворяло бы, как все требования цензурные, так и ожидания публики, и могло бы служить образцом для последующих предприятий в том роде.
Таково содержание характерной «записки». Позволяем себе прибавить к ней еще несколько строк.
В результате изложенной здесь тяжбы, подробности которой легко могли прискучить читателю по причине бесконечного повторения одной и той же главной темы с таким же однообразным повторением и реплики на нее, оказалось, однако же, весьма важное приобретение. За исключением двух-трех мест, тексты Пушкина прорвались сквозь волшебное цензурное кольцо, которым были обведены. Успех этот никак нельзя отнести к убедительности или неотразимости доводов, отысканных «запиской». Что значили доводы и доказательства там, где судьба процесса всецело зависела от личных настроений присутствующих, от их воззрений, имевших свою аргументацию и свою логику, которые уже никакому обсуждению не подлежали? Можно с достоверностью сказать, что исход тяжбы был бы совсем иной, если бы в течение ее не обнаружились симпатии самого министра народного просвещения и влиятельной части его канцелярии к делу истца. Не говоря уже о том, что «записка» была ими очень внимательно прочитана, но канцелярия еще дополнила ее своими указаниями и соображениями, которые казались наиболее пригодными в настоящем случае. Мы видели черновую рукопись «записки» с поправками, ссылками на уставы и законодательство, сделанными рукой канцелярского чиновника, и не тайно, украдкой, а, просто, как делаются обыкновенные редакторские поправки в нужной бумаге. Канцелярскою тайной осталось только все происходившее в заседаниях трибунала: какого рода прения там завязались около «записки», или их вовсе не было, кто состоял в числе ее защитников и ее противников, даже и то, докладывалась ли «записка» формальным образом, или только служила справкой во время совещаний. Темные слухи оттуда, доходившие до заинтересованных лиц, ограничивались мелочами и ничего существенного не представляли. Достоверно одно, что министр народного просвещения излагал свои мнения в ее духе наперекор своему подчиненному, попечителю учебного округа, который отстаивал помарки цензора почти как политическую необходимость и, выходя из заседания, промолвил с негодованием: «Еще не бывало, чтобы целое ведомство пожертвовано было неизвестно откуда взявшемуся господину». Это разноречие в министерстве было своего рода знамением времени, обещавшим близкое падение обычной цензурной практики. Старая система цензуры, состоявшая в водворении низменности мысли и бесцветности содержания в литературе, дошла до апогея своего развития и стала производить исключительно массы нелепых приговоров и непостижимых запрещений, возбуждавших общий смех. По всему русскому миру читателей ходили анекдоты о решениях, заметках и поправках цензуры, достойных какого-нибудь карикатурного лица в незатейливом водевиле, что и заставило сказать одно очень высокопоставленное лицо (графа Д.Н. Блудова) и в очень влиятельном салоне во всеуслышание: «Наши цензора сродни паясам». Общество потешалось рассказами о шутках, выкидываемых ими, но надо прибавить: оно и негодовало. Система изжила самое себя до безобразия. Этому обстоятельству, может быть, и следует всего более приписать снисхождение, оказанное издателю, и считать возрождавшееся требование на человеческий смысл в управлении печатью лучшим и сильнейшим его помощником в ведении всего дела.
Заведенный порядок однако же не так скоро уступает место другим, сменяющим его порядкам. Издание Пушкина 1855 года в полном его составе висело на волоске вплоть до своего появления. Когда воспоследовала окончательная санкция, дававшая право на выпуск в свет и всех произведений Пушкина, дополняющих старое издание и уже проверенных министерством народного просвещения, возник вопрос, как понимать слова, которыми она сопровождалась: «без всяких прибавок и неуместных умничаний по их поводу». Представлялась возможность применить последнее из этих решений к биографии и примечаниям, собранным в издании, и отказать им в пропуске, за что уже и были поданы голоса; и являлась возможность отнести решение к критикам и рецензиям, которые могут явиться после издания. Министерство народного просвещения растолковало его в последнем смысле и приняло на себя ответственность за такое понимание его сущности, чем и открыло дорогу в свет труду издателя в полном его объеме.
Вот при каких условиях приходилось работать над изданием Пушкина не далее как в пятидесятых годах…
1880 год.