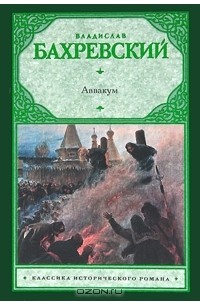Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава третья
Никон, возвращаясь из хождения по монастырям и уже зная о скором отпуске Антиохийского патриарха, устроил в его честь пир и ради потехи пригласил на этот пир северных людей. То были ненцы, пришедшие в Москву, чтобы участвовать в государевом походе на его недругов.
С ног до головы в шкурах, на поясах ножи, за спинами луки, низкорослы, широки, ходят перекатываясь. Никон приметил, как его заморские гости прячут глаза, боясь лишний раз поглядеть на непривычные лица северян. Про себя посмеивался: «Жидковаты на расправу!»
Шепнул своему патриаршему боярину князю Дмитрию Мещерскому:
– А ну-ка, вели принести сырой рыбы.
Вышел из-за стола, стал спрашивать у ненцев об их житье-бытье.
Все гости тоже покинули свои столы и расположились вокруг Никона. Московский патриарх взял у одного воина лук, потянул за тетиву – зазвенела как струна.
– Из чего это сделано?
– Из жил, батюшка! – ответил ненец.
– Из чьих жил-то?
– Всякий жила хорошо! Олень, тюлень, большой рыба.
– Человечьи-то жилы хоть не берете?
– Берем, батюшка! Хороший жила! – радостно закивал головой ненец.
Никон подержал в руках кинжал, полюбовался резной рукоятью.
– Рыбья кость, – объяснил ненец. – Моя рыбу кушай.
– А где ж вы варите рыбу? Печей-то у вас нет.
– Зачем варить? – изумился ненец. – Ненец сырой рыба кушай.
– А чем еще питаетесь?
– Зверь кушай, птица кушай.
– А человека съедите?
– И человека кушай!
Ненец пошутил, но он был так искренен, так прост, что у архидиакона Павла засосало под ложечкой.
Никон поднял голову и оглядел своих гостей. У Павла предательски задрожали ресницы, и Никон тотчас подошел к нему и стал легонько подталкивать к ненцам:
– Съешьте этого!
Все смеялись, и ненцы смеялись, и Павел улыбнулся, но пот бисером выступил на его смуглом лице.
Никон оставил антиохийца в покое и шагнул к громадному, тучному архидиакону сербскому:
– Вот этот потолще будет, повкуснее.
Ненцы подскочили к бедняге со всех сторон, тот стал упираться, попробовал стряхнуть с себя людоедов – не тут-то было: одежды затрещали, лопнули, куча мала повалилась на пол, архидиакон заорал дурным голосом, и князь Мещерский тотчас спас его и сказал ненцам:
– Вот вам сырая рыба. Ешьте!
Рыбу принесли на огромных подносах и поставили на пол. Ненцы уселись на полу, достали ножи и, отрезая от рыбин полоски, принялись за трапезу.
Никон смеялся от души испугу иноземцев. Сербский архидиакон за свои страхи и лишения был награжден деньгами, новой, очень дорогой одеждой и даже соболями.
Всем участвующим в застолье ненцы преподнесли резные изделия из драгоценного рыбьего зуба, всем, кроме сербского митрополита Гавриила.
Когда стали поднимать заздравные чаши, Никон вдруг сказал Гавриилу:
– А ты, святой отец, ехал бы в Коломенское, к отцу Александру. Он сегодня служит раннюю, помоги ему.
И бесцеремонно выпроводил из-за стола.
Видно, Гавриил имел неосторожность посочувствовать коломенскому епископу. Никон на последнем соборе упразднил Коломенскую епархию, учредив вместо нее Вятскую.
Вятский край был велик и далек. Никон совершал благо для вятичей, но он отправлял туда епископа Александра, который привык быть возле царя.
Злые бесстрашные языки поговаривали: из корысти Никон затеял перемену, позарился на вотчины Коломенской епархии, на богатые приходы, на казну. Все ведь отписал на патриарха, себе самому.
За неделю до отпуска Макария на родину Никон повез его помолиться перед святынями Троице-Сергиева монастыря.
Много чему антиохийцы удивлялись в Русской земле. На этот раз поражены были жестокосердием Московского патриарха.
Гуляя по монастырю, Макарий услышал отчаянные стоны и призывы о помощи. В каменной келии с одним окошком, узким как бойница, были заперты три дьякона. В моровое поветрие у них умерли жены. Детей у каждого помногу, и они пренебрегли запретом, женились во второй раз. Суд Никона был скорым и ужасным: заковал греховодников в цепи и назначил им в наказание голодную смерть.
Сам Бог послал дьяконам Макария. Молили испросить для них у Никона разрешения постричься в монахи.
Никон не был на той прогулке с гостями, занимался делами самыми земными. Война и для монастырей бремя. Людей надо дать царю, оружие, деньги, хлеб. На Белоозеро Никон посылал архимандрита Серапиона. Серапион подчистую вымел монастырские житницы. Из ржаной муки для государева запаса выпекли хлебы, из хлебов насушили сухарей. Из овса – толокно, из пшеницы – крупы. Все это было приказано доставить в Вязьму.
Воевода Замыцкий бил Никону челом, просил убавить поставку. Собрали по уезду с ворот по четверяку круп, толокна, сухарей. Набрали вдвое меньше, чем указано. Круп и толокна по сто четей, хлеба в сухарях триста четей. Везти государев запас тоже не на чем, с великой нуждою выколачивали у крестьян и монастырей подводы. Замыцкий Богом молил другую половину государева запаса не поставлять, голодно будет на Белом озере.
– Война жалости не ведает, – сказал Никон и поставку не отменил. Позволил, однако, половину запаса доставить водой, а другую половину – зимним путем.
После таких запросов просьба патриарха Макария о трех дьяконах была как пушинка, севшая на ладонь. Отпустили дьяконов на все четыре стороны.
Поворчал все же великий господин:
– Никон им строг! Не моего гнева надо страшиться, но Божьего! Геенна огненная времени не ведает.
Кто же любит, чтоб о нем плохо думали.
Вернувшись с Макарием в Москву, Никон повел антиохийцев в Благовещенскую церковь и показал все самые большие святыни: мощи Иоанна Крестителя, длань евангелиста Марка и пять его перстов, коими он начертал свое Евангелие; длани апостола Андрея Первозванного, Иоанна Златоуста, святого царя Константина, главу Федора Стратилата, главу Григория Богослова, главу мученицы Евгении и главу мученика Христофора, похожую на собачью. Были и другие мощи: правая рука Феодосия Великого, нога святого Пимена, частицы мученицы Евгении…
Показали антиохийцам Ризу Спасителя. Открыли ковчег, позволили приложиться к святыне.
На площади Никон воздел руки к сияющим куполам Благовещенской церкви и погордился:
– Есть ли в целом мире такое чудо? Все крыши и все девять куполов из чистого золота в палец толщиной. И крест из чистого золота!
Обед Никон устроил тоже напоказ.
Пригласил юродивого Киприана. Кушанья подносил ему сам, с поклоном, питье подавал в серебряных кубках, то, что в кубках оставалось, допивал, крошки доедал.
Киприан сидел за патриаршим столом не робея. Как всегда голый, в железных веригах, глаза устремлены в свою огненную думу. Божий человек ни на один вопрос Никона не ответил, молча поел, попил, благословился у Макария и ушел, спасибо хозяину не сказав.
Никон, смущенный суровостью Киприана, гостей от себя не отпустил. Дал им с час отдохнуть в своей келье и повел в иконописные мастерские.
В своей книге о путешествии в Россию Павел Алеппский напишет: «Знай, что иконописцы в этом городе не имеют себе подобных на лице земли по своему искусству, тонкости кисти и навыку в мастерстве. Они изготовляют образки, восхищают сердце зрителя, где каждый святой или ангел бывает величиною с чечевичное зернышко или с османи».
Не меньше, чем сами иконы, поразили антиохийцев живописцы-отроки. Большинство из них выполняли работу учеников, но были и такие, кто писал самостоятельно.
Меньшие дети Малаха из Рыженькой, Федотка и Егорка, так и загляделись на темноликого Макария. Они наловчились писать иконы вдвоем и писали икону Ильи Пророка в пустыне. Антиохийский патриарх был как само воплощение святых мест. Сердца живописцев трепетали, словно они на миг перенеслись в тот край, где совершал свои грозные подвиги неистово любящий Бога Илья.
Иконы писали артельно. Подмастерья готовили доски и левкас. Знаменщики прочерчивали контуры. Одни живописцы писали одежды, города, землю, другие – лики. Федотка и Егорка так быстро прошли все степени ученичества, что стали чудом артели, ее баловнями. Писали они иконы, исполняя все работы, от выбора доски до последней золотинки. Брали их иконы в царицын терем. Потому и воля им была особая.
Испрося позволения, Федотка и Егорка поднесли патриарху Макарию два образа: «Умиление» и «Святитель Петр Московский с клеймами жития».
Макарий благодарно подошел к месту, где трудились молодые живописцы, поглядел на пронизанную солнцем пустыню, на Илью с очами как молнии, благословил и одарил шкатулкой с землей Вифлеема.
– Рай! Рай! – говорил Макарий, покидая иконописцев.
А ему уже приготовили еще одну духовную радость.
Во время вечерни в Успенском соборе Никон облачился в саккос святого Сергия, патриарха Константинополя, а Макария облачили в саккос святого Фотия, тоже константинопольского патриарха, но еще более знаменитого, учителя Кирилла, брата Мефодия, способника крещения Болгарии, стойкого борца с папами-католиками.
Реликвии соединяют времена. А когда эта реликвия на тебе и ты служишь Богу, как до тебя в той же вот ризе служил Богу восемьсот лет тому назад пастырь, могучий духом, то в тебе совершается обновление и душу твою пронзают молнии великого озарения.
За три дня до отпуска Макарий был у Алексея Михайловича в комнатах.
– Как горестно расставаться с тобой, святейший мой отец! – сказал царь через переводчика.
– Мне было покойно и благостно в твоей стране, великий государь! – ответил Макарий. – Но душа болит за паству, родина снится каждую ночь. Сегодня мне явилась оливковая ветвь, и на листах ее роса. Душа тоскует и плачет по моему Халебу.
– Я сам тосклив, – признался государь. – Уйду из Москвы, а уж через неделю так бы и сбежал в свой терем…
Макарий решил, что минута самая верная, и попросил за сербского митрополита Гавриила – Никон всячески помыкает святым отцом, но отпустить не хочет.
– Обо всем-то ты печешься, всех жалеешь. – Государю нравились заступники. – Отпустим Гавриила. Завтра же и отпустим. Не то он проклинать нас будет, а нам его молитвы дороги.
(Государь слово исполнил. Отпустил сербского митрополита, Никона не спросясь. Пожаловал на дорогу четыре сорока соболей, четыреста ефимков и пять золотых грамот – хрисовул, дающих право их обладателям, монастырям, приезжать за милостыней.)
Алексею Михайловичу хотелось с восточным патриархом побеседовать об умном, об ученом, о Божественных тайнах, о вечности, но через переводчика говорить – все равно что через стену перекрикиваться.
У Макария тоже было много вопросов к государю, но задал он всего один.
– Я слышал такую историю, – сказал Макарий, – будто бы в Новгороде язычники посадили апостола Андрея Первозванного в раскаленную баню и стали поливать камни холодной водой, чтобы сжечь ученика Спасителя огненным паром. «Ах, я вспотел!» – молвил истязателям апостол Андрей, и это по-гречески звучит как «Россия». Отсюда ли произошло наименование твоей великой страны, великий государь?
– Когда святой Андрей приходил в нашу землю, Новгорода еще не было, – ответил Алексей Михайлович. – Есть река Рось, но никто точно не знает, кто дал имя земле и народу. Одно скажу: наше это имя – русское, и наша эта земля – Русь. Будешь в своей стране, не забывай Русь, русских и меня, грешного, в своих молитвах. Всякое доброе слово нам в прибыль.
На отпуске государь был щедр и милостив. Было Макарию дадено: пятьдесят сороков соболей, четыре тысячи белок, хрисовулы для монастыря Белеменд в Триполи, для монастыря Святого Георгия в Хмере, под Дамаском, и для Сиднайского монастыря. Рыбьего зуба подарили совсем немного, но другие просьбы исполнили. Вручили тридцать икон в позлащенных окладах, слюду, четыре медных паникадила. А вот митры и облачения государь не пожаловал.
Отвел Макария и толмача в сторону и наедине сказал:
– Прости нас, святейший! Не все даем, что ты просил, и не столь обильно, как бы нам этого хотелось. Я скоро выступаю в поход, а война, сам знаешь, – это пес, пожирающий людей и хлеб их, но более всего пожирающий деньги.
Макария до слез тронула сердечная откровенность Алексея Михайловича.
Дарами антиохийский патриарх был доволен. Иных искателей милостыни отпускали со столь малой казной, что не могли покрыть дорожных расходов. Полюбил царь темного лицом, да светлого душой патриарха, чья страна украшена святым преданием, подобно тому как земля украшена солнцем.
23 марта 1656 года антиохийский патриарх Макарий с большим обозом и с крепкой охраной отправился в обратную дорогу.
Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова в карете, где прозрачного – стекла и хрустального камня – больше, чем непрозрачного – серебра, золоченого дерева, – на лошадях, от сбруи которых полыхало на всю Москву алмазной россыпью, с дворовою охраною в три сотни одетых как на праздник молодцов, катила к деверю в кремлевские его хоромы близ Чудова монастыря.
Дожди согнали снег, но развели такую грязь, что москвичи сидели по домам, не желая потонуть в лужах и грязи. Увязали так, что тащить приходилось – смех и грех!
Для шестерки, может быть, лучших в мире лошадей – уж у царя-то точно таких нет, – боярыня прокатила по Москве как по маслу. Торопилась Федосья Прокопьевна ради успокоения огорченного и разгневанного ближнего боярина Морозова. Она везла Борису Ивановичу боярскую шапку из лучшего баргузинского соболя. Состарясь, Морозов совсем погашал, слуги и домочадцы уж и позабыли, каким колесом крутились перед своим господином. И вспомнили. И батоги на конюшне были, и затрещины в людских. А от чистого, ясного, петушьего голоска, летевшего из господских комнат, весь дом цепенел.
Уж какое там спешно – опрометью! – шили ферязь, охлябень, шубу, шапку, штаны, сапоги и даже исподнее.
Шуба показалась боярину куцеватой, охлябень – затрапезным, ферязь – только в чулане сидеть. Шапка – крива, штаны – широки, на сапогах жемчугу мало.
– Одни исподники годятся, потому что никто их не увидит! – красный от досады, кричал Борис Иванович и сапожникам, и портным, и дворецкому. – Все переделать и перешить за ночь. Мне ведь одежонку обносить надо, чтоб колом-то не стояла! Обновой одни дураки похваляются!
Суматоха поднялась из-за того, что государь пожаловал своего воспитателя, указал ему в Вербное воскресенье водить Ослю. То была высочайшая милость! Вести за узду с царем лошадь – значило изображать апостолов. На лошади, именуемой по-евангельски Осля, восседал, подобно Христу, патриарх. Вербное, или праздник Вайи, – это действо в память входа Иисуса Христа в Иерусалим.
Шапка, привезенная Федосьей Прокопьевной, так понравилась, что вся хандра сошла с Бориса Ивановича, и стал он по-прежнему ласков, спокоен и грустен.
– Последнее, знать, великое служение посылает мне, грешному, Спаситель наш.
– Отчего же последнее?! – отвела Федосья Прокопьевна, упаси Господи, вещие слова в сторону да за себя. – У государя дела нынче грозные да страшные, ему без добрых советников никак не обойтись.
– Наш царь враз одного слушает, а многих – нет. Было дело – меня слушал. Теперь слушает Никона.
– Слушал! Теперь не очень-то.
– Никон и сам столп. Не обойдешь, не объедешь.
– Бог с ними! – согласилась Федосья Прокопьевна. – Нам на тебя, Борис Иванович, будет дорого поглядеть с Красной площади. Люблю Вербное. Все веселы, все добры. Дети дивно поют. Верба как невеста. Вся Москва тебе порадуется в воскресенье.
– Москва? Помню, как по-собачьи лаяла Москва-то, прося у царя моей головы. Ласковая твоя да веселая. Мне этой веселости до самого смертного часа не забыть. А для кого старался? Для кого рублишки в казну собирал? Не для народа ли московского в первую голову? Москвичи взалкали смерти моей. Как волки, Кремль окружили. Если бы не добрый наш государь – волчьей шерстью небось обросли бы. Уж щелкали-то зубами точно по-волчьи.
Федосья Прокопьевна сидела призадумавшись. И улыбнулась:
– А все же ты, Борис Иванович, любишь и москвичей и Москву. Столько серебра на паникадило отвалил – подумать страшно! Сто пудов! Сто пудов!
– Паникадило скоро готово будет. В Успенский собор вклад. Не ради Москвы и уж никак не ради москвичей. Это моя благодарственная молитва Богу! – Борис Иванович сдвинул брови, его даже передернуло. – Я москвичей за народ не держу! Народ – в Мурашкине моем, в Лыскове. В царевом Скопине, в Черкизове. В Москве – приживалы живут! Коты жирные! Все бы им блюда за хозяевами облизывать.
– Ты и впрямь не простил их! – удивилась Федосья Прокопьевна.
– И не прощу! Будь я возле царя, давно бы все жили в сыте, в силе, в славе! А меня от царя отринули. Проще говоря, пинка дали, да такого, что на Белоозеро улетел. Ни гроша Москве не оставлю. Ни единого гроша.
Вербное воскресенье пришлось на 30 марта. Погода установилась, ручьи обмелели, поджались лужи, грязь обветрилась, затвердела. Вся Москва притекла на Красную площадь.
Верба, установленная в санях, была на диво юная, пушинками своими светила нежно, по-девичьи. Деревце обвешали связками изюма, яблоками, леденцами, а все же не затмили, не попортили ее красоты.
Борис Иванович Морозов вел Ослю, столь углубясь в действо и в себя самого, что Москва залюбовалась его сановитостью, его поступью. Признала умнейшим из всех, кто возле царя.
– Борис Иванович никогда дурного не сделает, – говорили охочие до разговоров москвичи. – Надежда наша.
– Надежда наша князь Черкасский, – поправляли люди сведущие. – Царь на войну сбирается.
Весна хватала царя Алексея под мышки, распирала ему грудь, и, не умея наяву, он летал во сне.
Весною в кремлевском терему Алексею Михайловичу становилось тесно и он перебирался всем своим многолюдным домом в Коломенское. Темные коломенские дубы на пылающем мартовском снегу тоже теряли спокойствие, тянулись и дотягивались до самого неба, раздвигали кронами непогодь. Малые небесные оконца голубого да синего ущемляли Алексея Михайловича за самое сокровенное ядрышко, что и было его жизнью.
По утрам, после молитв и службы, его тянуло к оврагу слушать, как под снегами пробуждаются вешние воды. Он припадал ухом к деревьям, замирая и затаивая дыхание, чтоб услышать, как бьются под корою токи жизни. И в себе он чувствовал призыв жить во всю мочь. Нетерпение срывало с его языка неосторожные слова, все помыслы его были опасными.
Отпустив прибывших спозаранок князя Никиту Ивановича Одоевского, Василия Борисовича Шереметева, Григория Гавриловича Пушкина и дьяка Алмаза Иванова с похвалою, царь кинулся в покои Марии Ильиничны поделиться новостью.
В царицыной палате стояло солнце, и государыня занималась, может, самым лучшим делом на свете – радовала потягушенками дочку Аннушку. И это приятствие с нею делил толстощекий сияющеглазый царевич Алексеюшка.
Царь как увидел сына, так и забыл про государский свой хомут. Подхватил на руки, утопил личиком в мягкой своей бороде, и тот, хохоча от счастья очутиться столь высоко над полом в мужских жестких руках, от ласковой щекотки, от красоты отца, от кровной близости, от сыновней, уму неподвластной любви, обхватил ручками отца, сколь хватало размаху в плечиках, и так приник теплым, родным тельцем, что царь Алексей обомлел в ответной ласке.
– Царевич ты мой! Веточка ты моя!
– Не больно прижимай! Опысает! – сказала царевичева мамка.
– Не говори зря! – обиделась за сына Мария Ильинична. – Он с восьми месяцев просится. И ночью грех с ним случается редко. Уж если когда заспится чересчур сладко.
Царь Алексей грозно зыркнул глазищами на мамку царевича, и все женщины, кроме Марии Ильиничны, заспеша по делам, удалились из комнаты.
– Квохи! – засмеялся царь, ужасно довольный, что не только слова, но и взгляда его боятся. – Ишь квохи!
Это он сказал уже царевичу и щекотнул ему шейку бородою. Царевич залился смехом, как колокольчик.
– Все, Ильинична! Не боли моя голова от посольского мудрованья! Ополчаюсь на шведского короля. Князь Одоевский написал ему целый короб укоризн.
– Что же это за укоризны?
– Хо-о-орошие укоризны! – рассмеялся царь. – За то, что пошел их величество на польские города войной, у моего царского величества не спрося́сь, и за то, что титул мой ломают из упрямства, пропуская в нем Богом данное. Умаление титула – это умаление святоотеческих границ. Война шведу! Война!
– Опять на целый год уедешь.
– Ильинична! Быть бы с победою, на коне. Для него ведь стараюсь! – подкинул царевича в воздух, еще раз подкинул.
– Не урони!
– Как я его уроню. Мне его уронить нельзя. В нем вся моя суть, вся жизнь.
– Ты посади его лучше к Аннушке. Они так презабавно играют.
Мария Ильинична подперла рукою щеку, огорченная известием о новой войне, хотя и знала, что этой войны Алексей Михайлович желает…
– Два года, а по виду и весу все четыре – тяжелющий!
От счастливого царя-отца пышело радостью, как теплом от печи.
– Голова большая! В тебя умный.
– Да уж не дурак!
Сел, обнял Марию Ильиничну за плечи:
– Милая ты моя! Я ведь все, что свершаю, для христианского преславного люда, для сына моего, для России-матушки. Ныне христолюбец Восток под басурманами плачет, а я его вызволю, если Бог даст! – Перекрестился. – О Господи! Пошли мне Свое благоволение! Вон молдаване сами под руку мою с надеждою и со слезами испросились, на Украину глядя. Украине нынче мир и покой от моей десницы. И всем будет мир и покой. Поляки тоже меня в цари желают. Наподдам шведам, чтоб без спросу городов не брали, и Варяжское море – мое! Ильинична! Ни у кого такой просторной державы нету, как у нас с тобою. В Сибири земли столько, что никто и не сосчитает ни рек, ни народов, ни верст. Считают, считают, да со счету и слетят. Вот он я у тебя какой!
– Да уж такой! – Мария Ильинична припала бархатной, молочной белизны щечкою к щеке Алексея и тотчас запылала розово, любя и желая желанного.
Поцеловал государь государыню в жаркую щечку, поцеловал таращившую глазки Аннушку, наследнику темечко облобызал и, словно бурей подхваченный, умчался.
Царя ждали Семен Лукьянович Стрешнев и братья Морозовы. Стрешнев привез отписку стольника, воеводы города Друи Афанасия Ордина-Нащокина. Через его город в Вену к императору Фердинанду III уж несколько раз проехало посольство Аллегрети, хлопотать, как это казалось Алексею Михайловичу, о его царского величества восшествии на престол Речи Посполитой.
Ордин-Нащокин в отписке всячески поносил шведов, которые то и дело нападают и грабят принадлежащие его царскому величеству литовские города, и пересказывал слухи, будто шведский король договаривается с Яном Казимиром сложиться силами и пойти войною на московского царя.
Представил Стрешнев еще и расспросные речи одного хваткого человека, бежавшего с турецкой галеры в Венецию и прошедшего многие страны и города. Человек этот сообщил, что в Риме слышал от людей почтенных и владетельных, будто папа римский просил цесаря послать Яну Казимиру войско, чтоб отбиться от московского царя. Войско это собирается в Вене… Казаки города Журавны написали письмо гетману Сапеге, просятся из-под государевой руки обратно под руку короля. Хваткий человек слышал, будто и сам Хмельницкий хочет быть за королем по-прежнему. На раде Хмельницкий и такое еще говорил: «Кто будет за царем, тому ходить пешим в лаптях и онучах, кто за крымским ханом – оденется в цветное платье, в сафьяновые сапоги и будет ездить на добром коне». На эти гетмановы слова казаки отвечали розно: те, которые по ту сторону Днепра, – добра хотят Польше, вместе с поляками и шведами хотят идти отбирать у царя и Хмеля украинские и литовские города, а те, которые по сю сторону Днепра, добра хотят великому государю и говорят, что хоть в лаптях, а умрут за государя, но под ляхов не пойдут.
– Лгут на Хмельницкого, – сказал Алексей Михайлович.
– Может, и лгут, – согласился Стрешнев с охотою и прибавил: – Город Львов гетман взять не захотел и Бутурлину не позволил.
– Я Хмельницкому верю! – посверкивая глазами, сказал Алексей Михайлович.
– А ты и верь! Верь, но поглядывай. Все эти речи про хана и поляков и про самого Хмельницкого – со слов людей Золотаренко, а Золотаренко шурин гетману. Может, и малая, но правда тут есть.
– Получу польскую корону из рук поляков, тогда и глядеть буду на малое, на большое, на всякое.
– А я знаешь какую новость слышал? – так же, как и племянник, посверкивая глазами, сказал Стрешнев. – В Польше уж есть новый король.
– Кто же?! – ахнул Алексей Михайлович.
– Матерь Божия!
– Что за еретичество?
– Почему еретичество? Как от Ченстоховского монастыря шведов отогнали, так настоятель Августин Кордецкий и объявил, что Матерь Божия есть первая заступница Польши. Ей и быть королевою.
Алексей Михайлович, стоявший во все время горячего разговора, сел на лавку, положил ногу на ногу, на коленку поставил локоть, подпер ладонью закручинившуюся голову.
– До чего похожи племянник и дядя! – сказал вдруг Борис Иванович Морозов.
– Я лицом – в матушку. Та только уж больно черноброва была.
– Походить на матушку – к счастливой жизни, к удаче, к доброму сердцу, – быстро вставил свое словцо Глеб Иванович.
– Хорошо с вами, с родными для меня людьми, – сказал царь, вздыхая и потягиваясь. – Разобрать бы все дела-то по косточкам. Я, может, и впрямь чего-то недоглядываю. Да где там! Что ни день, сто новых забот.
И тут в комнату быстро вошел, кланяясь с порога, патриарший боярин, князь Дмитрий Мещерский.
– Его святейшество патриарх Никон прибыл к тебе, великий государь, для совета и тайного государского дела.
– Тьфу ты! – в сердцах сплюнул Семен Лукьянович. – Будто боится царя с добрыми людьми наедине оставить. Тут как тут!
Алексей Михайлович с укором оглянулся на рассерженного дядю, но ничего ему не сказал.
Никон благословил подошедших к нему бояр тихим голосом, облобызался с царем, но сел на край лавки чуть не у порога.
– Отец мой! – так и подскочил Алексей Михайлович. – Будь милостив, садись за мой стол, чтоб всем нам досталось поровну от лицезрения тебя и от твоей беседы.
Семена Лукьяновича передернуло, но смолчал.
Никон поднялся с лавки, постоял, опустив голову, и опять сел, не слушая царского предложения.
– Я просителем пришел к тебе нынче, великий государь. Сие место для меня, грешного, подобающе.
Алексей Михайлович подошел к патриарху, взял его за руки, поднял, провел к столу, усадил на свой стул, сам же сел на лавку между Морозовыми.
– Что за кручина такая приключилась, владыко?
– Поизрасходовался. На Крестовую палату, на ружья, на колокол. Совсем не на что строить Крестовый монастырь. Оставил бы строительство, да Бога боюсь. По обещанию строю.
– Много ли денег нужно?
– Много, государь. Десяти тысяч не хватит. Всякую палку морем надо возить.
– Я, святитель, сам знаешь, на шведа ополчаюсь.
Алексей Михайлович поскучнел, призадумался.
Стрешнев, как хорошая лайка, навострился, ожидая только зова хозяина.
– Пять тысяч дам, – сказал государь, тяжко вздохнув, – шесть даже.
Семен Лукьянович зубами скрипнул.
– Болят, что ли? – спросил его царь участливо.
– Болят. Весь верх и весь низ.
– К доктору моему сходи!.. – И стал суетливым: встанет, сядет, то одно возьмет со стола, то другое. – Шесть тысяч наберу для твоего святого дела, отец мой… А ты, пожалуй, уступи мне пару сел, которые патриарх Иосиф купил в дом Пресвятые Богородицы. Стекановское и Дмитровское… Будь милостив, а я прибавлю с полтысячи.
Никон сдвинул на мгновение брови, глянул на непроницаемые лица бояр и тоже вздохнул:
– Деньги-то мне очень нужны. Пока не развезло дороги, отправить нужно многое… Села я тебе, великий государь, передаю хоть с завтрашнего дня. Видно, у тебя недостаток в землицах. Щедр ты больно! Такие лакомые имения Потоцкому отписал!
– Может, и перехватил, – согласился Алексей Михайлович и вдруг рассердился. – Ты тоже хорош, друг мой собинный. Я хоть с землями к битому поляку прибежал, а ты с перекрещиванием. Макарий сто раз тебе толковал: католиков перекрещивать – грех!
На кончике Никонова носа взыграло красное пятнышко.
– Дело с Потоцким было решенное. Мы вместе о том говорили.
– Говорили. Но разве не вразумило тебя слово Макария… Ты в одно, что ли, ухо-то слушаешь, святой отец? На Богоявление ты как освящал воду?
– Как, как? Как Богом указано! – Никон стал лицом бел, а пятна красные сыпью пошли по щекам.
– Макарий велел два раза воду освящать, в церкви и на реке. А ты? Ты мужик, блядин сын, по-своему все делаешь! Своим умом горазд! А весь ум-то – во!
И царь постучал костяшками пальцев по столу.
– Опомнись – я тебе духовный отец.
– А по мне, лучше нет духовного отца, чем Макарий. Он лицом – темен, да умом – светел.
– Мне, патриарху, обидны твои слова, великий царь. Я блюду мою Церковь, как Бог мне велит.
– Мне, да мою, да я! – Алексей Михайлович кричал уже во все горло, – Ты делай так, как Восток указал. Как издревле шло, от самого Иисуса Христа… Эй! Кто там!
В комнату вбежал Ртищев.
– Пошли, Федор, за Макарием. Что глазами на меня лупаешь? Вернуть патриарха Макария в Москву тотчас! Пусть вразумит наших умников. До того умны стали, хоть плачь!
Патриарха Макария вернули из Болохова. Здесь его задержали Пасха и великие непролазные весенние грязи.
В Москве Макарию особенно не обрадовались, и никто толком ему не объяснил, какая нужда и чья воротила его с дороги.
Никон принял Макария чуть ли не через неделю после возвращения. Слез умильных, лобызая, не проливал, да и лобызал-то воздух. Объявил Макарию, что его присутствие необходимо для участия в Соборе. Собор Никону пришлось выдумать. Поднял уж давно решенный вопрос о крещении ляхов и про свои личные неприязни не забыл, вытянул на свет дело Неронова.
Беглеца сыскали в десяти верстах от Игнатьевской пустыни в Телепшинской пустыни. Патриаршие дети боярские подступили было к келье, где жил в молитве и посте инок Григорий, он же Иван Неронов, но были окружены очень сердитыми людьми, и не то что взять беглеца под стражу, сами еле отговорились и бежали прочь без памяти.
В вопросе о крещении папистов Макарий был непреклонен, второй раз крестить нельзя, и царь, согласный с ним, тотчас издал указ о запрете перекрещивания.
Неронова прокляли и отлучили от церкви вкупе с Павлом Коломенским. Заступников в Соборе у отлученных не нашлось. И отлучение благословил в ответном послании Никону Константинопольский патриарх Паисий. Но вот что было странно, отлучил он Павла с Иваном за сочинение литургии. О литургии этой никто ведать не ведал и слышать не слышал.
Алексей Михайлович косился на Никона – не оболгал ли собинный друг врагов своих перед Константипольским патриархом? Косился, но промолчал: не хотелось распри затевать за неделю до похода. Никон сам перед Богом ответчик.
Вернулся государь с Собора к себе на Верх, а Мария Ильинична в слезах.
– Эх вы, проклинатели! Ни совести у вас, ни Бога в душе!
– Как так? – изумился словам жены Алексей Михайлович, слаб был к женским слезам. Женщины хоть тысячу раз не правы, а все себя виноватым чувствуешь. – Царицушка, опомнись! Милая! Утри скорее слезы.
– Помер епископ Павел. Говорят, сожгли его по тайному наущению Никона.
– Не может быть того, царицушка! Оговорили Никона. Я слышал, что Павел умом тронулся. Кто станет помешанного огнем жечь?
– Смерть Павла на Никоне. Но и на нас грех! Не заступаемся за любящих Бога!
Алексей Михайлович встал на колени и заплакал: много в его сердце горечи накопилось. Не убывает злобы в мире. Молишься, молишься – не убывает!
15 мая, как всегда на белом коне, сияя шлемом, убранным жемчугом, алмазами и белоснежным султаном, под колокола выступил царь на шведов.
Видом царь был грозен, а глазами улыбчив. Пушек много, солдат иноземного строя много, одних немецких командиров не пересчитать, полки новгородские, полки казачьи… А самое приятное, такая большая, такая многолюдная война в казну даже не попнулась. Обошлись денежным сбором: 25 копеек с двора, десятая часть с доходов и с имущества монастырей, архиерейских домов, десятая часть купеческих капиталов, налог с помещиков, не сумевших поставить нужное число ратников…
Последний пир в загородном дворце Никона, последнее благословение Антиохийского патриарха Макария, благословение и советы святейшего Никона, и – заклубилась пыль войны. Пошла толкотня, убийства, разорения. Вопли героев и вопли поверженных. И все обращали взоры к Богу: одни жить хотели, только бы жить, никому не мешая, другие хотели убивать и не быть убитыми. И все были правы.
Истина же стояла в стороне, роняя беззвучные свои слезы. Истина на всех одна, неделима. Об истине ведают, да знать ее не хотят.
Дворянин Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич, воевода города Друи, во сне увидал себя планетою Марсом. Взошел на серые небеса вроде бы и не ночью и воссиял.
О сне своем Афанасий Лаврентьевич рассказал сыну Воину.
Воин слушал отца, чуть подняв лицо и опустив глаза. Лицом он был тонок и бел. Бел до такой иневой голубизны, что женщины, при всей-то их звериной осторожности, останавливались, оборачивались. К такому лицу – черные волосы, борода и брови пепельные, глаза серые. Странное это было лицо. Воин хоть не желал себя иного, но на люди лишний раз не показывался. Женщина взглянет – мужчина зубами скрипнет. Охочих же сглазить на Руси всегда было много. Боялся Воин своей красоты.
– Что же ты молчишь? – Афанасий Лаврентьевич смотрел сыну в лицо, ожидая, когда тот поднимет ресницы. Их взгляды встретились наконец.
– Не знаю, отец. Сон пророчит великое, может быть.
– Но кому? С моим чином на порог не пустят, за которым дела-то великие решаются.
«Тебе! Тебе!» – Неприязнь и досада душили Воина: отец уж такой служака, того и гляди из кожи вылезет. Вслух сказал почтительно и робко:
– Не знаю, отец.
Теперь досада разобрала Афанасия Лаврентьевича:
– Привыкли, что один я у вас всему знаток. Тебе какой сон был?
– Мне?! – изумился Воин, он насупил брови и стал так красив, что отец головой покачал. – Я видел… Ах, вспомнил! Я видел двух кобылиц на желтом лугу.
Афанасий Лаврентьевич, растроганный смущением сына, подобрел, потеплел.
– Кобылицы – это что-то молодое. Но ты у меня молодец. Я доволен твоим старанием в службе. Тот, кто взялся служить государю, ничего иного, кроме службы, в уме держать не волен. Я бы свой сон под стражу взял, как смутьяна, да не ухватишь… Пора делами заняться, сын. Кто нам пишет и откуда?
Афанасий Лаврентьевич сел за воеводский стол, а Воин встал. Письмо, лежащее первым, он положил под стопу, но, уже читая царский указ за приписью дьяка Василия Брехова, передумал, вернул письмо наверх.
«Которые есть польские и литовские люди Браславского, и Кажинского, и Диноборгского, и иных поветов, – читал Воин, – которые приедут в Друю на вечную службу, велено тебе, воеводе, приводить к вере: белорусов – к Христовой, католиков и иных вер – по их вере».
– Кстати, как дела у Якуба Кунцеевича, ты проверял? – спросил Афанасий Лаврентьевич.
– Третьего дня у него было две с половиной сотни.
– Хорошо. Государя такое известие обрадует.
Воин придержал в руке положенное сверху и прочитал то, что было под ним, от герцога Курляндского.
«Чем это он терзается? – удивился Афанасий Лаврентьевич. – Огорчить меня не желает или хочет, чтобы некое дело сделалось наверняка? Верно, сын! Начальника нужно настраивать на дело, как настраивают на лад гусли».
Письмо герцога было поздравительным. Изъявлял удовольствие, что в Друю назначен воевода, имя которого пользуется доброй славой в порубежных с Россией городах.
Третье письмо тоже было заздравное: шляхта друйской округи благодарила Ордина-Нащокина за то, что унял грабежи, установил порядок и вернул спокойствие краю.
Воин решительно переложил неудобное письмо под стопу и зачитал грамотку стольника Смена Змеева о постройке ста двадцати судов смоленскими дворцовыми крестьянами на реках Каспле и Белой. Богдан Матвеевич Хитрово выдал из приказа Большой казны одну тысячу рублей, и дело пошло так споро, что все суда были уже готовы, и Змеев спрашивал, куда их перегонять и как спешно.
Были важные вести из-за рубежа. Польский король Ян Казимир искал оборону от шведов и нашел. Помощь ему обещал венгерский король Ракоци.
В свою очередь шведы тоже нашли себе помощника. Не известив государя, гетман Богдан Хмельницкий дал согласие оказывать Карлу X помощь, покуда Речь Посполитая не рассыплется в прах, и обещал послать под Краков Киевский полк Антона Ждановича. С Ракоци же у гетмана был особый, наитайнейший договор о разделе Польши. Венгрия после крушения Речи Посполитой получала Малую Польшу, Мазовию, Литву и Галицию. Шведская корона приобретала Великую Польшу и Западную Пруссию. Для себя гетман выговаривал княжеское звание, а для Малой России статус, подобный Курляндскому герцогству.
– Вот она, нынешняя государская честь! – Афанасий Лаврентьевич взял из рук сына донесение верного своего человека, перечитал. – Я рад за тебя, Воин. Ты с молодых лет познаешь темные чуланы власти. Золото, хоругви, колокола – все это для отвода глаз. Истина – в чуланах. И все же мерзость есть мерзость. Ты согласен со мной?
– Согласен, отец.
– А что ж тогда не краснеешь? И я не краснею. Привыкли к мерзостям. Знал бы ты, как я не терплю казаков, весь их род. – Афанасий Лаврентьевич спрятал тайный лист в сундук с тремя замками. – Природные изменники. В такой час, когда государь со всею силой ополчился на шведского короля, гетман обещает государеву врагу целый полк. Лучший полк! Не какой-нибудь Нежинский или Винницкий, но Киевский! – Покосился на письмо, которое вновь оказалось у сына в руках. – Однако что ты сам думаешь о столь наглом непослушании гетмана?
– Как мне сметь рассуждать о подобном, от моих рассуждений проку мало.
– Я хочу не увертки твои слышать, а мысли мужа…
– Прости, отец! Я думаю, гетман опасается, что государь в поисках польской короны может отступить от Украины.
Сказал твердо, ясно. У Афанасия Лаврентьевича даже дух захватило от такой-то правды. Что греха таить, струсил, но вида не подал, улыбнулся.
– Что ж, я опять доволен тобой. Слепые да глухие – плохие слуги. – И вскипел: – Что это за письмо, которым ты мне все глаза промозолил?
Воин густо покраснел, и было удивительно, что столь белое лицо может так меняться в цвете.
– Это из Пскова, от твоего человека.
– О чем?
– О деле Степана Бухвостова.
Теперь и у Афанасия Лаврентьевича щеки вспыхнули.
Стольник Бухвостов запятнал свою честь грабежом и гонением себежской шляхты. Ордин-Нащокин написал о бесчинствах стольника государю, и тот повелел посадить Степана в тюрьму.
Царь гневлив, да денежки милостивы. Псковские дьяки Меркурий Крылов да Максим Челищев государев указ попридержали у себя во Пскове, а потом и вовсе затеряли среди многих бумаг.
– Садись и пиши тотчас! – приказал сыну Афанасий Лаврентьевич, выходя из-за стола. – Господи, как же служить государю, когда кругом лихоимец на лихоимце? Когда уж царские указы крадут! Смелы нынче деньги. Вот какая у них власть! Царя ни во что не ставят.
Выхватил из рук Воина перо, макнул в каламарь и принялся строчить послание.
– «Чтоб до конца не разрушили твоего государева дела, – выкрикивал Афанасий Лаврентьевич и писал, писал, бормоча себе под нос, пока снова не переходил на крик – Вели меня и сынишку моего смертью казнить… Сильным и помощь большая, а мне места нет у твоего государева дела».
Ордин-Нащокин жалобщиком был профессиональным, но царю Алексею Михайловичу нравились письма верного слуги. Он и сам был готов пожаловаться на спесивых бояр, на алчных дьяков, на всеобщую дурь. Но кому?
– Царь знает все это, – сказал Афанасий Лаврентьевич, отложив законченное письмо и отирая платком пот со лба. – Вот ведь что страшно: много знает, да мало может. Царь – не Бог. Верю, придет время иных порядков, когда воров будут называть ворами, а дураков – дураками, когда слушать будут умных да ученых. Только нам-то куковать по-кукушечьи до конца наших дней придется… И не куковать нельзя.
Пора было идти к столу, за которым воеводу ждали его нахлебники. Воин поторопился показать отцу грамотку, требующую незамедлительного решения.
Минский воевода Федор Арсеньев сообщил о побеге лихоимцев. Вина их была в том, что они грабили шляхту. Государь распорядился из сорока человек двадцать повесить. Сидельцы, не дожидаясь, когда их разберут, кому куда, подрыли тюрьму и бежали. Ушло тридцать человек, самых ярых. Всем воеводам приказано было без мешканья искать беглецов.
– К нам они не побегут, – сказал Воин. – Моровым поветрием с нашей стороны тянет.
– Думаешь, зараза страшнее палача? Человек от смерти к смерти бежит не задумываясь. Авось пронесет. И проносит. С нынешнего дня надо удвоить посты и заставы. И довольно на сегодня. Гости ждут.
Воин участвовал во всех застольях, которые отец ценил как дело государственное и чрезвычайно важное.
– Ничто так не сближает людей, как еда из общего котла, – сказал он нравоучительно.
– Как же мне надоело выслушивать все эти умные глупости.
– Глупости, сын мой, говорят о людях много больше, чем их умности. Все эти люди отныне и во веки веков – подданные государя. Чтобы жить с ними в ладу, надо их знать и любить. Полюбим мы с тобой – полюбит их и государь.
Отец был прав, но Воину хотелось за иной стол.
– Батюшка! – взмолился он. – Дозволь мне посетить попа Григория. Я для его семейства дом сыскал. Пусть они все порадуются.
– Хвалю! – сказал отец. – Надо быть искусником, чтобы в разоренном городе дом найти. Никого не обидел?
– Нет, отец. Дом занимают две дряхлые старухи. Им нужен уход. К тому же поп избавит их от голода.
История попа Григория была трогательная и поучительная. Война сожгла его дом и лишила семьи. Попадью и шестерых детей как военную добычу увез можайский дворянин Елагин. Поп Григорий поискал защиты у Ордина-Нащокина и встретил доброе участие. По совету воеводы ударил челом государю, и государь приказал вернуть пленников. С государевым словом к Елагину прибыл строгий подьячий Томила Перфильев, и никаких препятствий попу чинить не посмели.
Вернувшись в Друю, отец Григорий с женою и чадами был устроен в доме вдовы Станислава Кунцеевича. Вдова вселению не обрадовалась, подала воеводе вежливый, но твердый протест: два старших поповича вошли в возраст, у вдовы же две дочери на выданье. Воин, разбирая дело, был в доме Кунцеевичей. Представленный вдовою ее дочерям Марысе и Власте и их гостье из Риги Стелле фон Торн, принял дело так близко к сердцу, что решил его за три дня.
Воин слукавил, говоря отцу, что собирается обрадовать попа Григория. Семейство, не имевшее скарба, перебралось в дом старух еще вчера. Воин и перед Кунцеевичами собирался разыграть удивленного, но его приняли так ласково и с такой обаятельной светскостью, что лгать не пришлось.
Не было ни застолья, ни унизительных благодарностей. Провели в гостиную, пани Марыся от всех дам поцеловала его, и пошла беседа столь непривычная, столь откровенная…
– Скажите нам, пан Воин, – первой обратилась к нему кареглазая, смуглолицая пани Марыся, – чем русская жизнь отлична от нашей?
Рот у Марыси был большой, но не для того, чтобы испортить девичью красу. Зубы, как жемчужные орешки, один к одному, в глазах золотой рай.
– Чем отличается жизнь русских? – невольно переспросил Воин. Перед его глазами встали весенние московские улицы, ему пришлось весной отвозить государю важные и срочные известия. – В наших городах грязно, – сказал и покраснел. – У нас все из дерева. У крестьян чашки деревянные, ложки. Даже обувь! Все ведь ходят в лаптях из лыка. Я знаю, что иные бояре тоже любят лапти. Уезжают в свои деревни и ходят в лаптях.
– Наши крестьяне ничуть не лучше ваших, и я спрашиваю вас не о превосходстве одних перед другими, но о той сути, которая делает русских русскими.
– Можно подумать, что ты знаешь, отчего ты полька, а не турчанка? Отец с матерью поляки – вот и вся премудрость! – Пани Кунцеевич была явно недовольна дочерью.
– Да, мама! В этом все дело. Но моя польская суть проявилась бы, родись я хоть в Испании, хоть и в Туретчине.
– Марыся! – всплеснула руками Стелла фон Торн. – Какая же ты у нас умная. Я горю желанием услышать твое рассуждение о поляках.
– Не о поляках, а о том, чем их – и никого другого! – наградил Бог.
– Чем же? Чем? – Стелла подливала огня в разговор.
– Гордыней, что ли? – спросила Власта.
Старшая дочь пани Кунцеевич была ничуть не похожа на сестру – светлая, пышная, с личиком улыбающейся лисицы.
– Вы принуждаете меня отвечать самой, а я хотела послушать нашего гостя. Он, кажется, не очень-то любит свое, русское, впрочем, как и мы, не знающие цены своему, польскому. Не гордыня, Власта, суть поляка. Его суть в отношении к окружающему миру. Мы для себя оставляем самую середину этого мира. Мы убеждены, что мир существует для нас. Нам так кажется. Окажись мы на двенадцатом кольце от центра, все равно будем убеждать себя, что это не мы вращаемся вокруг одиннадцати колец, но все они вокруг нас. – Указала на Воина. – Русские, надеюсь, думают прямо противоположное. Да нет! О чем это я! Для себя они жить не умеют и не хотят. Жить для всех, достигнуть Царствия Божия для всех, всех привести к Богу, всех заслонить от сатаны – вот их русская суть.
– Марыся, откуда в тебе это? – перепугалась пани Кунцеевич. – Простите ее, пан Воин. Это у нее от юности, от несовершенства ума и учения. Она у нас ужасная выдумщица.
– В словах Марыси много справедливого, – сказал Воин. – Боюсь только, что она думает о русских лучше, чем они есть на самом деле.
– Да разве это хорошо, что я сказала? – осердилась Марыся. – Хуже этого нет. За других думать, за других молиться, за других страдать, терпеть, умирать. А если я не желаю вашего рая? Зачем мне туда, если и вы там будете?
– Простите, пан Воин! – Пани Кунцеевич молитвенно сложила руки. – Ее отец погиб, сражаясь в войске Радзивилла, но ее дядя служит государю. Государь пожаловал ему чин полковника.
– Меня нисколько не обижают правдивые слова пани Марыси, – тихо сказал Воин. – Я и мой отец желаем мира Речи Посполитой. Речь Посполитая – великая держава, и все ее несчастья – наша боль.
– Пан Воин, какого числа вы родились? – неожиданно спросила Стелла фон Торн.
– Первого. Первого апреля.
– Замечательное число! И вы ему соответствуете в полной мере… Мой дворецкий занимается восточными науками. Он посвятил меня в тайны чисел, – пояснила она. – Единица – символ Солнца. Ошибаются те, кто думает, что не велика разница родиться первого или второго. Это уже два разных, бесконечно далеких друг от друга человека. Пан Воин, я расскажу вам о тех свойствах, которые обязательны для «единиц». Вы же чистосердечно сообщите нам, много ли ошибок в моих толкованиях. Итак! Вы упорны, строго придерживаетесь своих взглядов. Все свои начинания пытаетесь довести до конца. Вы во всем стремитесь быть ярким, все делать по-своему. Узда для вас – истинное мучение. Ваше честолюбие столь страстное, что оно приведет вас на большие высоты. Свои самые важные задумки и дела совершайте в дни единиц: первого, десятого, девятнадцатого, двадцать восьмого. Люди, удобные для вас, те, которые вас поймут и поддержат, рождены второго, четвертого, седьмого, одиннадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и так далее. То есть двойки, четверки и семерки. Счастливые для вас дни – воскресенья и понедельники. Ваш камень – топаз, янтарь, желтый алмаз. Цвета ваши, пан Воин, золотые, желтые, бронзовые. Вы ведь – Солнце. Янтарь вам надо носить на теле. Одно мгновение, пан Воин! Закройте глаза! Дайте вашу руку. На счастье!
В его ладони лежал совершенной чистоты, напитанный светом янтарь.
Воин попытался возразить, но ему слова не дали сказать:
– Не беспокойтесь, пан Воин. По цене это сущий пустяк. Моя родина богата золотой смолой. Пусть этот наш камень пошлет вам добрые мысли и убережет от всего лихого в этом мире.
– Я приму ваш дар только в том случае, если вы примете мой. – Воин решительно снял с пальца перстень с сапфиром и положил на стол.
– Это несправедливо! – воскликнула Стелла фон Торн. – Ваш перстень – настоящая драгоценность… Что ж, я к моему янтарю присовокуплю трактат о знамениях. Правда, он на латыни.
– Я знаю латинский язык, – сказал Воин.
Беседа велась по-польски, и пани Кунцеевич тоже нашлась что спросить:
– Пан Воин, вы владеете польским языком лучше всех нас, где вы учились?
– Дома, – ответил Воин. – Мой отец, знающий счет деньгам, никогда не экономил на учителях. Я из-за этих превосходных учителей детства не знал.
В окна постучали, сначала тихо, потом настойчиво.
– Дождь! – жалобно вздохнула Власта. – Опять дождь.
– Пусть теперь все дожди высыпаются, – сказала Стелла фон Торн, – лето будет жарче. Как же я люблю лето! Наше лето и наше море. У нас, пан Воин, море серебряное. Насколько глаз хватает – серебро! Серебро без границ. И берега у нашего моря тоже серебряные. Так домой хочется.
– Я помогу вам с проезжими грамотами, – пообещал Воин. – Если хотите домой, поторопитесь.
– Что-то должно произойти?
Воин про себя содрогнулся: так вот и выбалтывают государевы секреты.
– Моровое поветрие идет, – сказал он, проведя языком по высохшим губам. – Чума.
Дома Воин перекрестился на икону Спаса. Зарока давать не стал.
Но решил твердо: в гости к панночкам не хаживать. И не хаживал. На то и «единица» – человек воли твердой, ума ясного.
Обещание свое – дать Стелле фон Торн подорожную грамоту – сдержал, выпроводил ловкую даму из Друи. И вздохнул с облегчением: в Друю что ни день приходили обозы с продовольствием, с порохом, свинцом. Кузнецы перековывали лошадей. Пахло железом. Это был запах войны.
Воевода Ордин-Нащокин, предупреждая разведывательные наезды противника, в городке Кляшторе поселил опочецких и гдовских стрельцов. И по обоим берегам Двины поставил заставы и начал строительство небольших крепостей.
Крепости должны были успокоить и обмануть шведов: русские дальше не пойдут, русские строят оборону.
Государь с Дворовым своим полком шел на войну так быстро, как позволяли дороги да Господь Бог. По Русской земле весной не разбежишься, мимо монастырей с чудотворными иконами как пройдешь? Да и не таков был Алексей Михайлович, чтобы ради войны поломать величавое и вдохновенное течение жизни, заповеданное царями византийскими. Да и правилом святых отцов можно ли поступиться? А потому все священные праздники праздновались, все посты блюлись, и пиров в честь иноземных послов, в честь бояр и воевод не убыло.
17 мая в Савво-Сторожевском монастыре Алексей Михайлович молился, раздавал нищим милостыню, но дел своих государских тоже не забывал. На пиру во славу русского воинства пожаловал в окольничьи Никиту Михайловича Боборыкина.
19 мая царь пришел в Можайск, 20-го – в Ельню, 23-го – в Вязьму.
В Смоленске Алексей Михайлович остановился надолго, чтобы дать отдых полку, воеводам, а главное – чтоб очертя-то голову не кидаться неведомо куда и неведомо на кого. Победу Бог даст, но не раньше, чем ему, Господу, угодно.
31 мая на большом пиру по случаю приема курляндского посла Алексей Михайлович порадовал ближних людей и славных своих воевод царским награждением. Борису Ивановичу Морозову – золотая шуба, кубок и триста рублев к окладу, Илье Даниловичу Милославскому – золотая шуба, кубок и сто восемьдесят рублев, Глебу Ивановичу Морозову – золотая шуба, кубок и сто семьдесят рублев, Якову Куденетовичу Черкасскому, воеводе из самых грозных и великих, – и шуба, и кубок, и деньгами двести рублев. Артамону Матвееву, полковнику и стрелецкому голове, царь пожаловал атлас и сотню рублев. Не забывал царь молодых. Артамон годен ко всякой службе: и на саблях с врагами рубиться, и о тайных делах государевых говорить с гетманами и князьями, и царю для царских дел его, когда молчанием, когда советом, быть полезным и нужным.
Последнее сочинение государево, к которому причастился Артамон, была роспись колокольного и прочего оповестительного ясака.
Один удар с большого набата тихим обычаем – весть о походе государя.
Беспрестанный набат, всполох – быть полковникам, чинам, стрельцам и всему войску в указанном месте в строю.
Затрубит сурна – стрелецкие головы поспешают к государеву шатру.
Затрубят две сурны, в литавры ударят – смотр войску или государь куда-то идет. Стрелецкие головы поспешают к шатру с четырьмя людьми.
Три выстрела из пищали у царского двора – победа.
Пять выстрелов – город сдался, восемь – взят с приступу. Пятнадцать выстрелов – большая победа.
Хорош был ясак, оставалось только города взять, чтоб народ громкою пальбой тешить.
В начале июня от Дементия Башмакова – стало быть, от самого государя – к воеводе Петру Потемкину на берега Ладожского озера приехал за тайными вестями Томила Перфильев. Воевода посылал в Швецию лазутчиков к православным людям. Православные люди сказали: «Иди скорее, царь русский! Торопись. Приходил к нам шведский генерал, многих вошедших в возраст мужчин забрал в солдаты. Ждем тебя, великий государь, с надеждой».
Вести ободрили и укрепили Алексея Михайловича. Поскакали от царя сеунчи ко всем воеводам: «Приспела пора. С Богом!»
20 июня выступил государь в поход на Ригу и 27-го был в Витебске, расположась в шатрах на берегу реки Двины.
Первым начал Петр Потемкин. Он осадил город Орешек, в котором сидело сто солдат шведов и сто солдат латышей. Приступ не удался, к тому же на помощь городу шел из Стокгольма, из Стекольни, как говорили русские, отряд ярла Роберта. Потемкин оставил под стенами Орешка капитана Якова Крести, а сам двинулся навстречу шведскому отряду и 29 июня в сражении на Ладоге разбил и пленил ярла Роберта. Осмелев от победы, Потемкин погрузил свое войско на ладьи и барки, вышел в Варяжское море и принялся сгонять шведские гарнизоны с островов.
Выходит, что и до Петра Великого бились русские на море и побеждали.
Отпустили наконец патриарха Макария из Москвы. Ехал он, торопя возниц, с оглядкою и вздохнул свободно только в Чигирине. Встречать патриарха Хмельницкий послал генерального писаря Ивана Выговского и сына Юрия. Гетман был нездоров, патриарха он принял на другой день в своих покоях.
Богдан принял благословение и тотчас сел.
Через смуглоту лица проступала бледность, глаза запали, в глазах то покой и мудрость, а то вдруг тоска и вопрошение. Признался Макарию:
– Кабы знал, что народ мой устроение и успокоение получил, крепкое, вечное, с тобой бы поехал. Поставил бы столб – и молись Богу перед небом и землей, сам за себя в ответе. Нет же, нет! Не пускают грехи грешника в рай. И народ не устроен, и дом мой ненадежен. Тимоша Бог взял, а за Юрко сердце болит. Ласковый он человек, и мне за него страшно. В книжных премудростях зело силен, но в человеческой науке слаб. Врагу душу откроет, друга за порог выставит. – И поклонился патриарху, как простолюдин: – Поживи, святейший, в Суботове сколько можешь. Помолись за душу казака Тимоша. Славный был казак, грехов на нем много. Помолись, святой отец, больше-то ничего для героя моего поделать нельзя.
Земля под Чигирином показалась Макарию неуютной, мрачной. Болота, песчаные горы. Дикое место.
Суботов окружен рвами. Вокруг дворца окопы.
В первый же день по приезде к патриарху пришла со свитою жена Тимоша Роксанда.
На голове суконный колпак, опушенный соболем, в простом платье казачки. Заговорила сначала по-гречески, но увидала, что патриарх слушает с напряжением, поглядывая на сына Павла. Перешла на турецкий. Макарий изумился:
– Вы так свободно переходите с языка на язык!
– Все мои знания – моя судьба. Греческий – язык отца, валашский – язык родины. Турецкому неволя в Серале выучила, украинскому – несчастное замужество. Польский ради этикета в себя вталкивала, и Бог отгородил от меня Речь Посполитую стеной.
– Вам здесь плохо? – сорвался с патриарших губ мотылек жалости.
– Плохо, святейший! – улыбнулась так гордо и такой омут был в глазах ее, что патриарх посмотрел себе под ноги. – Я этого желала. Стремилась отхлебнуть из казачьей воли, а хлебнула собственной крови от побоев.
– Я буду молиться за тебя, дочь моя!
– Сначала, святейший, помолись за отца моих двойняшек. Они должны были вернуть утерянную любовь, но судьба и на этот раз обошлась со мной жестоко. Тимош так и не узнал, что он стал отцом.
Храм Святого Михаила был богат. На его строительство и украшение пошли сокровища армянских церквей, которые Тимош награбил в Молдавии.
Над гробницей висело развернутое знамя с портретом юного воителя. Был он верхом на коне, с мечом в правой руке, с гетманской булавой в левой. Тут же была изображена карта Молдавии, которой Тимош собирался владеть.
Макарий совершил торжественную панихиду. Вдова во всем черном недвижимо стояла у правого клироса. Платье будничное, стать княжеская.
Утром, перед отъездом патриаршего поезда, Роксанда вновь пришла к Макарию. Передала мешочек талеров на поминовение Тимоша за упокой, себя за здравие.
– Возьмите, святой отец, мои глаза, поглядите ими на Босфор, на Айя-Софию, на Галату, на всякий дом и на всякое дерево великого города! Истамбул был для меня чудовищем, но стал самым светлым воспоминанием. Это мой день, ибо впереди у меня только ночь.
Макарий дрожащей от волнения рукой благословил Роксанду, и глаза у нее сверкнули.
– Не жалей меня, святейший! Если Бог перенесет меня в иные земли, в иные страны, в сам рай земной, я Тимоша и Суботов буду поминать с любовью и ненавистью, как поминаю ныне Истамбул. С любовью и ненавистью.
Долго печаль Суботова лежала на сердце Макария.
30 июня государь, еще не зная об успехах Потемкина на Ладоге, приказал боярину и воеводе Семену Лукьяновичу Стрешневу идти и взять город Диноборок. Чужеземные наименования для русского уха были непривычны, а потому писали эти города как у кого язык повернется: Диноборк, Динабург…
Желая быть ближе к ратям и битвам, того же 30-го числа Алексей Михайлович выступил с Дворовым полком и со всеми своими вельможами и священством в поход и 5 июля был в Полоцке.
Государя встречали крестным ходом, а игумен Богоявленского монастыря Игнатий Иевлич сказал царю торжественное приветственное слово.
В Полоцке государю стали приходить челобития и являться челобитчики с жалобами на московских ратников, которые грабят население, наведываются за Двину, разоряя подданных курляндского герцога, с которым царь в дружбе.
Алексей Михайлович тотчас послал Стрешневу строжайший наказ навести в полку порядок, чтоб никто из его солдат курляндских людей не грабил и не обижал.
Семен Лукьянович ответил не без досады. Его люди через Двину не переходят, обижать некого, потому что на добрых тридцать верст от реки пусто. «За нами присматривают, в Ригу сообщают», – писал Семен Лукьянович царствующему племяннику.
Жалобы приходили и от своих. Яков Куденетович Черкасский сообщал о тяжком пути к Динабургу: всюду болота, дороги зыбкие, вязкие. Обоз и пушки все время отстают.
Однако ж войска все ближе и ближе подходили к городам, и государь 8 июля отправился в местечко Сельцо, в Спасо-Преображенский монастырь, основанный преподобной Евфросинией Полоцкой. С государем поехали митрополит Крутицкий Питирим, Борис Иванович Морозов, Никита Иванович Одоевский и его сын Федор. Федор потерял цвет лица, кровь словно перестала греть его. Царь был сильно обеспокоен. Один из сыновей Одоевского умер у него на глазах.
– В монастыре есть дивный список с чудотворной иконы Ефесской Божией Матери, – сказал Алексей Михайлович Федору наедине. – Икона прислана от Константинопольского патриарха Луки самой Евфросинье. Помолись перед иконой с верою. Может, и пошлет Бог здоровья тебе на радость, отцу твоему в успокоение.
По дороге Алексей Михайлович подсадил в свою карету пропыленного, белого как лунь странника.
– В монастырь идешь?
– В монастырь. Поживу хоть с месяц, ноги от дорог уж больно зудят.
– А разве монахини пускают в свой монастырь на житье мужчин?
– Так я в Богородицкий иду, в мужской. Его тоже матушка Евфросинья основала.
– Ты вот по белу свету ходишь… Велика ли слава у святой?
– Велика, государь! Сильная святая. Она, может, из русских-то женщин первая дошла до святого града Иерусалима. Там и предала Богу душу… Она ведь – княжна! – Старичок разошелся, распалился. – Знаешь, как в миру-то ее звали? Предслава. Отец ее, князь Георгий, мужа ей искал среди, как сам он, князей, а она избрала себе самого Иисуса Христа. В те поры монастырей женских в наших краях не было. Так она при Софийском соборе жила, книги переписывала. Великая была книжница. У нее и в монастыре монашки книги переписывали. Грамотеев было больше, чем нынче. Про нее, слышь-ка, что рассказывают. Она и в миру, в княжнах, все Богу молилась. Ей говорят: «Зря лоб бьешь, коли в царские одежды наряжена». А она перед охульниками платье-то скинула, а под платьем у нее власяница да железы.