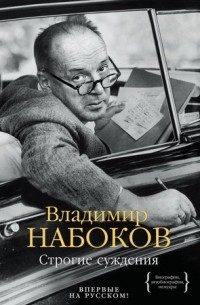Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3
Этот диалог с Олвином Тоффлером появился в январском номере «Плейбоя» за 1964 год. Обе стороны приложили огромные усилия, чтобы создать иллюзию спонтанной беседы. В действительности моя часть, в том виде, в каком она вышла, полностью совпадает с ответами, каждое слово которых было написано мною от руки заранее, до публикации, дабы представить их Тоффлеру, приехавшему в Монтрё в середине марта 1963 года. В настоящем тексте учитывается порядок заданных моим интервьюером вопросов, а также тот факт, что несколько последовательно идущих страниц моего напечатанного текста были, очевидно, потеряны при пересылке. Egreto perambis doribus!
После публикации «Лолиты» в Америке в 1958 году ваши слава и состояние выросли почти внезапно, словно грибы, – от высокой репутации среди литературных cognoscenti, которой вы пользовались более тридцати лет, до шумного одобрения и брани по адресу всемирно известного автора сенсационного бестселлера. После такого cause célèbre вы когда-нибудь жалели, что написали «Лолиту»?
Напротив, я содрогаюсь теперь при воспоминании, что были моменты в 1950-м, потом в 1951 году, когда я чуть не сжег черный дневничок Гумберта. Нет, я никогда не пожалею о «Лолите». Это напоминало составление прекрасной головоломки – составление и в то же время ее разгадывание, поскольку одно есть зеркальное отражение другого, в зависимости от того, откуда смотришь. Конечно, она совершенно затмила другие мои произведения, во всяком случае, те, которые я написал по-английски: «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком незаконнорожденных», мои рассказы, книгу воспоминаний, но я не могу осуждать ее за это.
В этой мифической нимфетке есть странное нежное обаяние.
Хотя многие читатели и критики не согласятся с тем, что ее обаяние нежное, мало кто будет отрицать, что оно своеобразное, – настолько, что, когда режиссер Стэнли Кубрик объявил о своем намерении сделать фильм по «Лолите», вы, как известно, говорили: «Конечно, им придется изменить сюжет. Возможно, они сделают Лолиту карлицей. Или ей будет в фильме шестнадцать, а Гумберту двадцать шесть». Хотя в конце концов вы сами написали сценарий, некоторые критики осудили фильм за то, что в нем якобы разбавлена основная сюжетная линия. Вы удовлетворены результатом?
Мне казалось, что фильм получился просто первоклассный. Четыре основных актера заслуживают самых высоких похвал. Сью Лайон, приносящая поднос с завтраком или по-детски натягивающая свитер в машине, – моменты незабываемой игры и режиссуры. Убийство Куильти – шедевр, как и смерть миссис Гейз. Должен отметить, однако, что я не имел никакого отношения к самим съемкам фильма. Будь это так, наверное, я бы настоял на том, чтобы подчеркнуть некоторые вещи, которые не были подчеркнуты, например мотели, где они останавливались. Я только написал сценарий, большая часть которого была использована Кубриком. А если что и «разбавлено», то не с моего кропила.
Как вам кажется, двойственный успех «Лолиты» изменил вашу жизнь к лучшему или худшему?
Я оставил преподавание – вот, пожалуй, и все изменения. Заметьте, мне нравилось преподавать, я любил Корнеллский университет, я любил составлять и читать лекции о русских писателях и о великих европейских книгах.
Но когда вам около шестидесяти, да еще и зима, процесс преподавания начинает казаться физически утомительным: вставать в определенное время каждое второе утро, бороться со снегом на подъездной аллее, потом идти по длинным коридорам в аудиторию, пытаться нарисовать на доске карту Дублина Джеймса Джойса или план спального вагона поезда «Санкт-Петербург – Москва» в начале 1870-х годов, – без знания этих вещей ни «Улисса», ни «Анну Каренину», соответственно, невозможно понять. По неведомой причине мои самые яркие воспоминания связаны с экзаменами. Большой амфитеатр в «Голдуин Смит». Экзамен с 8 утра до 10:30. Около 150 студентов – немытые, небритые молодые люди и в меру ухоженные девушки. Царит атмосфера уныния и катастрофы. Восемь тридцать. Покашливание, судорожное прочищение глоток, волнообразное движение звуков, шелестение страницами. Некоторые мученики погрузились в медитацию, руки сцеплены на затылке. Я сталкиваюсь с тусклым взглядом, обращенным на меня, видящим во мне с надеждой и ненавистью источник запретного знания. Девушка в очках подходит к моему столу, чтобы спросить: «Профессор Кафка, вы хотите, чтобы мы сказали, что?.. Или вы хотите, чтобы мы ответили только на первую часть вопроса?» Великое братство троечников, этот хребет нации, непрерывно что-то строчит. Слышится дружный шелест – большинство переворачивает страницу в своих синих экзаменационных тетрадях с сыгранностью хорошей команды. Затекшие запястья расправляются, ручки отказываются писать, дезодоранты уже не помогают. Когда я ловлю на себе взгляд, то он немедленно устремляется к потолку, выражая благочестивую задумчивость. Стекла постепенно запотевают. Молодые люди стягивают с себя свитера, девушки жуют резинку в быстром темпе. Десять минут, пять, три, время истекло.
Указывая в «Лолите» на такие же пропитанные желчью сцены, как только что изображенная, многие критики называли книгу мастерской сатирой на американское общество. Правы ли они?
Ну, я могу только повторить, что по устремлениям и по складу характера я не обличитель нравов и не социальный сатирик. Считают критики или нет, что в «Лолите» я смеюсь над человеческой глупостью, мне совершенно все равно. Но меня раздражает, когда распускаются веселенькие слухи, что я смеюсь над Америкой.
Но разве вы сами не писали, что «нет ничего более забавного, чем вульгарность Американского Обывателя»?
Нет, так я не говорил. Эта фраза вынута из контекста, без которого она лопается, как глубоководная рыба на суше. Посмотрев мое маленькое послесловие «О книге, озаглавленной „Лолита“», которое я добавил к роману, вы увидите, что на самом деле я говорил следующее: в смысле обывательской вульгарности, которую я действительно считаю крайне забавной, нет никакой разницы между американскими и европейскими нравами. Далее я говорю, что любой пролетарий из Чикаго может быть таким же мелким обывателем, как любой английский герцог.
Многие читатели заключили, что наиболее забавным проявлением обывательских взглядов являются, по-вашему, американские сексуальные нравы.
Секс как общественный институт, секс как широкое понятие, секс как проблема, секс как пошлость – все это я нахожу слишком скучным для разговора. Давайте оставим секс в покое.
Вы когда-нибудь подвергались психоанализу?
Подвергался чему?
Психоаналитическому обследованию?
О господи, зачем?
Чтобы посмотреть, как это делается. Некоторые критики сочли, что ваши колючие замечания по поводу популярности фрейдизма в том виде, в каком его практикуют американские психоаналитики, говорят о презрении, основанном на близком знакомстве.
Знакомство исключительно книжное. Это испытание само по себе слишком глупо и отвратительно, чтобы подумать о нем даже в шутку. Фрейдизм и все то, что он заразил своими абсурдными гипотезами и методами, представляется мне одним из самых подлых обманов, которым пользуются люди, чтобы вводить в заблуждение себя и других. Я полностью отвергаю его, как и некоторые другие средневековые штучки, которым до сих пор поклоняются люди невежественные, заурядные или очень больные.
Кстати, об очень больных. В «Лолите» вы предположили, что страсть Гумберта Гумберта к нимфеткам – следствие несчастной детской любви; в «Приглашении на казнь» вы писали о двенадцатилетней девочке Эмми, которая испытывает эротический интерес к мужчине вдвое ее старше; и в «Под знаком незаконнорожденных» ваш главный герой воображает, как он «тайком наслаждается Мариэттой (его служанкой), когда она сидит, слегка вздрагивая, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играла его дочь». Некоторые критики, вчитываясь в ваши книги в поисках ключа к личности автора, отмечают этот повторяющийся мотив как доказательство нездорового интереса к теме взаимного сексуального влечения девочек-подростков и взрослых мужчин. Как вы считаете, есть ли доля истины в этом обвинении?
Думаю, правильнее было бы сказать, что, не напиши я «Лолиту», читатели не начали бы находить нимфеток ни в других моих сочинениях, ни в собственном доме. Мне кажется очень забавным, когда дружелюбный, вежливый человек говорит мне, может быть лишь из вежливости и дружелюбия: «Мистер Набоков», или «Мистер Набаков», или «Мистер Набков», или «Мистер Набоуков – в зависимости от его лингвистических способностей, – у меня есть маленькая дочь – настоящая Лолита». Люди склонны недооценивать силу моего воображения и способность разрабатывать в своих произведениях особую систему образов. Есть, правда, особый вид критика, хорек, охотник до чужих секретов, пошлый весельчак. Кто-то, например, обнаружил скрытые параллели между детским романом Гумберта на Ривьере и моими воспоминаниями о маленькой Колетт, с которой я десятилетним мальчиком строил замки из влажного песка в Биаррице. Однако мрачному Гумберту было все-таки тринадцать, и его мучили довольно необычные сексуальные переживания, в то время как в моих чувствах к Колетт не было и следа эротики – совершенно заурядные и нормальные чувства. И конечно, в девять-десять лет в той обстановке и в то время мы вообще ничего не знали о той фальшивой правде жизни, которую в наши дни прогрессивные родители преподносят детям.
Почему фальшивой?
Потому что воображение маленького ребенка, особенно городского, сразу же искажает, стилизует или как-то еще переиначивает те странные вещи, которые ему говорят о трудолюбивой пчелке, тем более что ни он, ни его родители не могут отличить ее от шмеля.
Ваше, по определению одного критика, «почти маниакальное внимание к фразировке, ритму, каденциям и оттенкам слов» заметно даже в выборе имен для ваших знаменитых пчелки и шмеля – Лолиты и Гумберта Гумберта. Как они пришли вам в голову?
Для моей нимфетки нужно было уменьшительное имя с лирическим мелодичным звучанием. «Л» – одна из самых ясных и ярких букв. Суффикс «ита» содержит в себе много латинской мягкости, и это мне тоже понадобилось. Отсюда – Лолита. Но неправильно произносить это имя, как вы и большинство американцев произносят: Лоу-лиита – с тяжелым, вязким «л» и длинным «о». Нет, первый звук должен быть как в слове «лоллипоп»: «л» текучее и нежное, «ли» не слишком резкое. Разумеется, испанцы и итальянцы произносят его как раз с нужной интонацией лукавой игривости и нежности. Учел я и приветливое журчание похожего на родник имени, от которого оно и произошло: я имею в виду розы и слезы в имени «Долорес». Следовало принять во внимание тяжелую судьбу моей маленькой девочки вкупе с ее миловидностью и наивностью. «Долорес» дало ей еще одно простое и более привычное детское уменьшительное имя «Долли», которое хорошо сочетается с фамилией Гейз, в которой ирландские туманы соединяются с маленьким немецким братцем-кроликом – я имею в виду немецкого зайчика.
Как я понимаю, речь идет о каламбуре, связанном с немецким словом Hase – заяц. Но что вдохновило вас окрестить стареющего любовника Лолиты с такой очаровательной чрезмерностью?
Это тоже было просто. Удвоенное грохотание кажется мне очень противным, очень зловещим. Ненавистное имя для ненавистного человека. Но это еще и королевское имя, а мне нужна была царственная вибрация для Гумберта Свирепого и Гумберта Скромного. Она годится также для игры слов. И отвратительное уменьшение «Хам» соответствует – социально и эмоционально – «Ло», как называет ее мать.
Другой критик писал, что «просеять и отобрать из многоязычной памяти единственно верную последовательность слов и расположить их многократно отраженные нюансы в должном порядке физически, наверное, очень утомительно». Какая из ваших книг была самой трудной в этом смысле?
О, «Лолита», конечно. Мне недоставало необходимых сведений – это была главная трудность. Я не знал американских двенадцатилетних девочек, и я не знал Америки: я должен был изобрести Америку и Лолиту. Мне понадобилось около сорока лет, чтобы изобрести Россию и Западную Европу, и теперь передо мной стояла схожая задача, но в моем распоряжении было гораздо меньше времени. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить средней «реальности» в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет куда более сложным делом, чем это было в Европе моей юности.
Хотя вы родились в России, но уже много лет живете и работаете в Америке и Европе. Ощущаете ли вы достаточно сильно принадлежность к какой-нибудь нации?
Я – американский писатель, который родился в России и получил образование в Англии, где изучал французскую литературу, после чего прожил пятнадцать лет в Германии. Я приехал в Америку в 1940 году и решил стать американским гражданином и сделать Америку своим домом. Так уж случилось, что я сразу познакомился с лучшими сторонами Америки – с ее богатой интеллектуальной жизнью и непринужденной, сердечной атмосферой. Я погрузился в ее огромные библиотеки и в ее Большой каньон. Я работал в лабораториях ее зоологических музеев. Я приобрел больше друзей, чем когда-либо имел в Европе. Мои книги, старые и новые, нашли превосходных читателей. Я стал таким же упитанным, как Кортес, в основном потому, что бросил курить и перешел на конфеты, после чего мой вес с обычных ста сорока фунтов увеличился до монументальных и жизнерадостных двухсот. Так что я на треть американец – добрая американская плоть согревает и хранит меня.
Вы прожили в Америке двадцать лет, но даже не обзавелись собственным домом и не имели там постоянного места жительства. Друзья рассказывают, что вы временно останавливались в мотелях, дачных домиках, меблированных комнатах, в домах отсутствующих профессоров. Вы чувствовали себя настолько отчужденно, что сама мысль прочно осесть где-нибудь раздражала вас?
Основная, фундаментальная причина заключается, я полагаю, в том, что меня могла бы удовлетворить только точная копия обстановки моего детства. Но я никогда не смогу воссоздать ее в полном соответствии с моими воспоминаниями, так зачем же зря тратить силы на безнадежные попытки? Нужно учитывать и другое – например, фактор начального толчка и последующей инерции. Я вылетел из России с такой скоростью, с такой жестокой силой, что так и качусь с тех пор. Правда, я докатился до аппетитного титула «полного профессора», но в душе всегда остаюсь тощим «почасовиком». Несколько раз я говорил себе: «Вот хорошее место для дома» – и сразу же слышал в голове шум лавины, уносящей прочь сотни отдаленных мест, которые я уничтожу только тем, что обоснуюсь в каком-нибудь уголке земли. И наконец, я не слишком люблю мебель, столы, стулья, лампы, ковры и все такое – возможно, потому, что в моем обеспеченном детстве меня научили относиться с легким презрением к чрезмерной привязанности к материальному богатству, поэтому я не испытывал сожаления и горечи, когда революция его уничтожила.
Вы прожили в России двадцать лет, в Западной Европе двадцать лет и в Америке двадцать лет. Но в 1960 году, после успеха «Лолиты», вы переехали во Францию, затем в Швейцарию и с тех пор не возвращались в Соединенные Штаты. Значит ли это, что, хотя вы и считаете себя американским писателем, ваш американский период закончился?
Я живу в Швейцарии по причинам исключительно личного характера – семейным, а также профессиональным, как, например, определенные исследования для определенной книги. Надеюсь очень скоро вернуться в Америку к ее библиотечным полкам и горным тропинкам. Идеальным вариантом была бы совершенно звуконепроницаемая квартира в Нью-Йорке на последнем этаже – никаких шагов наверху, никакой легкой музыки – и домик на Юго-Западе. Порой я думаю, что было бы забавно вновь украсить собой какой-нибудь университет, жить и писать там и не преподавать или, во всяком случае, делать это нерегулярно.
А пока вы остаетесь в уединении и ведете, как говорят, сидячий образ жизни в гостиничной комнате. Как вы проводите время?
Зимой я встаю около семи: мой будильник – альпийская красноногая галка, большая черная птица с блестящими перьями и крупным желтым клювом, которая навещает мой балкон и весьма мелодично клекочет. Некоторое время лежу в постели, обдумываю и планирую день. Около восьми бритье, завтрак, тронные размышления, ванна – в таком вот порядке. Потом до обеда я работаю у себя в кабинете, делая перерыв для короткой прогулки с женой вдоль озера. В то или иное время почти все знаменитые русские писатели девятнадцатого века бродили здесь: Жуковский, Гоголь, Достоевский, Толстой, который ухаживал за гостиничными служанками не без ущерба для здоровья, и множество русских поэтов. Впрочем, то же самое можно сказать о Ницце или Риме. Ланч у нас около часа, и в час тридцать я вновь сижу за столом и непрерывно работаю до шести тридцати. Потом прогулка к киоску за английскими газетами, и в семь обед. Никакой работы после обеда. Ложусь около девяти. Читаю до полдвенадцатого, а потом ворочаюсь от бессонницы до часу ночи. Примерно дважды в неделю у меня случается хороший долгий кошмар с неприятными героями предыдущих снов, возникающими в более или менее повторяющемся окружении, – калейдоскопические комбинации разорванных впечатлений, обрывки дневных мыслей, безотчетные машинальные образы, совершенно не допускающие ни фрейдистского осмысления, ни объяснения, – удивительно похожие на мелькающие картинки, которые обычно видишь на изнанке век, закрывая усталые глаза.
Странно, что знахарям и их пациентам никогда не приходило в голову столь простое и совершенно удовлетворительное объяснение сна. Правда, что вы пишете стоя и от руки, а не на машинке?
Да. Я так и не научился печатать. Обычно мой день начинается за чудесной старомодной конторкой в моем кабинете. Потом, когда сила притяжения начинает пощипывать икры, я сажусь в удобное кресло за обыкновенный письменный стол, и, наконец, когда тяжесть ползет вверх по позвоночнику, я ложусь на диван в углу моего маленького кабинета. Приятно подражать солнечному расписанию. Но когда я был молод, лет в двадцать и до тридцати с небольшим, я часто целый день оставался в постели, курил, писал. Теперь все изменилось. Горизонтальная проза, вертикальные вирши и сидячие схолии то и дело меняются определениями и портят аллитерацию.
Можете ли вы рассказать побольше о самом творческом процессе, в ходе которого возникает книга; может быть, прочтете нам какие-нибудь подготовительные записи или фрагменты из того, над чем сейчас работаете?
Ни в коем случае. Ни один зародыш не должен подвергаться исследовательской операции. Но я могу сделать нечто другое. В этом ящике хранятся карточки с более или менее свежими записями, не понадобившимися при написании «Бледного огня». Небольшая пачка отходов. Вот, пожалуйста. «Селена, Луна. Селенгинск, старинный город в Сибири: город, откуда запускают ракеты на Луну»… «Berry: черная шишка на клюве лебедя-шипуна»… «Dropworm: маленькая гусеница на нитке»… «В „Новом журнале хорошего тона“, том пятый, 1820 год, с. 312: проститутки названы „городскими девочками“»… «Юноше снится: забыл штаны; старику снится: забыл зубной протез»… «Студент объясняет, что, читая роман, любит пропускать куски текста, чтобы „составить собственное представление о книге и не подвергаться влиянию автора“»… «Напрапатия: самое уродливое слово в языке».
«А после дождя, на проводах, унизанных каплями, одна птица, две птицы, три птицы, ни одной. Грязные шины, солнце»… «Время без сознания – мир низших животных; время с сознанием – человек; сознание без времени – какой-то более высокий уровень»… «Мы думаем не словами, а призраками слов. Джеймс Джойс ошибался, облекая мысли в своих, вообще-то, превосходных внутренних монологах излишней словесной плотью»… «Пародия на вежливость: это неподражаемое „Пожалуйста“ – „Пожалуйста, пришлите мне вашу прекрасную…“, с которым фирмы по-идиотски обращаются к самим себе на бланках, отпечатанных для людей, заказывающих их изделия»…
«Наивный, непрерывный – пи-пи – писк цыплят в унылых клетках поздно-поздно ночью на заиндевевшем пустынном перроне»… «Заголовок в бульварной газете „TORSO KILLER MAY BEAT CHAIR“ можно перевести: „Celui qui tue un buste peut bien battre une chaise“»… «Продавец газет, протягивая мне журнал с моим рассказом: „Вы угодили на глянцевую обложку“»… «Снегопад, молодой отец на улице с малышом, носик как розовая вишня. Почему родители тут же говорят что-то ребенку, если ему улыбается незнакомец? „Конечно“, – говорит отец в ответ на вопросительное лепетание ребенка, которое продолжалось уже некоторое время и продолжалось бы еще в тихо падающем снеге, не улыбнись я, проходя мимо»… «Пространство между колоннами: темно-синее небо между двумя белыми колоннами»… «Название места на Оркнейских островах: „Папилио“… Не „И я жил в Аркадии“, но „Я, – говорит смерть, – есть даже в Аркадии“ – надпись на могиле пастуха („Ноутс энд куайериз“, 13 июня 1868 года, с. 561)»… «Марат собирал бабочек»… «С эстетической точки зрения солитер, конечно же, нежелательный жилец. Беременные сегменты часто выползают из анального отверстия человека, иногда цепочками, и известны случаи, когда это вызывало замешательство в обществе (Анналы Нью-Йоркской академии наук, 48: 558)».
Что побуждает вас собирать и записывать такие разрозненные впечатления и цитаты?
Я только знаю, что на очень ранней стадии развития романа у меня появляется сильное желание запасаться соломинками и пухом и глотать камешки. Никогда никто не узнает, насколько ясно представляет себе птица, если представляет вообще, будущее гнездо и яйца в нем. Когда я потом вспоминаю ту силу, которая заставила меня набросать правильные названия вещей или их размеры и оттенки, еще до того, как мне эти сведения понадобились, я склоняюсь к тому, что вдохновение – это слово я употребляю за отсутствием лучшего термина – уже действовало, молчаливо указывая то на одно, то на другое и заставляя собирать известный материал для неизвестного сооружения. После первого шока узнавания – внезапного ощущения: «Вот о чем я напишу» – роман начинает расти сам по себе; этот процесс происходит исключительно в уме, а не на бумаге; и чтобы понять, на какой стадии он находится в данный момент, мне не надо представлять себе каждую конкретную фразу. Я чувствую, как внутри что-то тихо растет, развивается, и я знаю, что подробности уже оформились, что на самом деле я бы ясно различил их, если бы посмотрел пристальнее, если бы остановил механизм и открыл его; но я предпочитаю ждать до тех пор, пока то, что приблизительно именуют вдохновением, не выполнит эту работу за меня. Потом приходит время, когда мне изнутри сообщается, что сооружение готово. Теперь мне остается только записать все ручкой или карандашом. Поскольку это сооружение, неясно маячащее в сознании, можно сравнить с картиной, для правильного восприятия которой не обязательно двигаться последовательно слева направо, то я могу направить свой фонарь на любую часть или фрагмент картины, когда стану описывать ее на бумаге. Я не начинаю роман с самого начала. Для того чтобы написать четвертую главу, мне не обязательно иметь третью, я не пишу покорно одну страницу за другой по порядку; нет, я выбираю понемногу то здесь, то там, пока не заполню на бумаге все пустоты. Вот почему я люблю писать рассказы и романы на карточках, нумеруя их только тогда, когда набор полон. Каждая карточка переписывается множество раз. Примерно три карточки составляют машинописную страницу, а когда наконец-то я чувствую, что задуманная картина скопирована мной настолько точно, насколько это физически возможно – некоторые участки, увы, так и остаются незаполненными, – тогда я диктую роман жене, которая печатает его в трех экземплярах.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что копируете «задуманную картину» романа?
Настоящий писатель должен внимательно изучать творчество соперников, включая Всевышнего. Он должен обладать врожденной способностью не только вновь перемешивать части данного мира, но и вновь создавать его. Чтобы делать это как следует и не изобретать велосипед, художник должен знать этот мир. Воображение без знания приведет лишь на задворки примитивного искусства, к детским каракулям на заборе или к выкрикам узколобых ораторов на базарной площади. Искусство никогда не бывает простым. Если вспомнить мое преподавательское прошлое, то я автоматически ставил плохие отметки, когда студент употреблял ужасное выражение «искренне и просто»: «Флобер всегда пишет искренне и просто» – словно это величайший комплимент, какой можно сделать прозе или поэзии. Когда я зачеркнул карандашом это выражение с такой яростью, что порвалась бумага, студент заныл, ведь так его всегда учили: «Искусство просто, искусство искренне». Когда-нибудь я обязательно докопаюсь до первоисточника этой пошлой глупости. Училка в Огайо? Прогрессивный осел в Нью-Йорке? Потому что, несомненно, величайшее искусство фантастически обманчиво и сложно.
Что касается современного искусства, то мнения критиков относительно искренности или обманчивости, простоты или сложности современной абстрактной живописи расходятся. Каково ваше мнение?
Я не вижу принципиальной разницы между абстрактным и примитивным искусством. И то и другое просто и искренне. Естественно, в этих вопросах не нужно обобщать: только отдельно взятый художник имеет значение. Но если мы на минуту примем общее понятие «современное искусство», тогда нужно признать, что это искусство ординарно, подражательно, академично. Пятна и кляксы всего лишь сменили поток красивостей столетней давности: картины с итальянскими девушками, статными нищими, романтическими руинами и т. д. Но как среди тех банальных холстов могла появиться работа настоящего художника с более богатой игрой света и тени, с какой-нибудь неповторимой силой или мягкостью, так и в банальщине примитивного или абстрактного искусства можно наткнуться на проблеск огромного таланта. Только талант интересует меня в картинах и книгах. Не общие идеи, а только личный вклад.
Вклад в общественную жизнь?
Произведение искусства не имеет никакого значения для общественной жизни. Оно важно только для отдельного человека, и только отдельный читатель важен для меня. Мне наплевать на всякие группы, общество, массы и т. д. Хотя я и равнодушен к лозунгу «искусство для искусства» – потому что, к сожалению, такие его сторонники, как, например, Оскар Уайльд и некоторые другие утонченные поэты, были на самом деле штатными моралистами и нравоучителями, – нет никакого сомнения в том, что искусство, и только искусство, а не социальная значимость предохраняет литературное произведение от ржавчины и плесени.
Чего еще вы стремитесь достичь, а от чего могли бы и отказаться – или это не должно волновать писателя?
Ну, что касается перспектив, то у меня, конечно, нет программы или плана на 35 лет, но у меня есть определенное представление о будущем моих книг. Я ощутил некоторые намеки, я почувствовал дуновение неких обещаний. Несомненно, будут взлеты и падения, долгие периоды забвения. С помощью дьявола я открываю газету 2063 года и в разделе критики нахожу: «Сегодня никто не читает Набокова или Фулмерфорда». Ужасный вопрос: «Кто этот несчастный Фулмерфорд?»
Раз уж мы затронули тему самооценки, хочется спросить: что, кроме забывчивости, вы как писатель считаете своим главным недостатком?
Отсутствие спонтанности; навязчивость параллельных мыслей, вторых мыслей, третьих мыслей; неумение правильно выразить себя на любом языке, не иначе как сочиняя каждое проклятое предложение в ванне, в уме, за столом.
Позвольте заметить, что в данный момент это у вас неплохо получается.
Это иллюзия.
Ваш ответ, как может показаться, лишь подтверждает правильность критических отзывов, где вас называют «неисправимым шутником», «мистификатором» и «литературным провокатором». А как вы сами себя оцениваете?
Думаю, в самом себе мне больше всего нравится то, что меня никогда не волновала глупость или желчность критиков и я ни разу в жизни не просил кого-либо написать рецензию на мои книги и никого не благодарил за написанные обо мне статьи. Следующее, что мне в себе нравится… – или хватит одного примера?
Нет, продолжайте, пожалуйста.
То, что с юности – мне было девятнадцать лет, когда я покинул Россию, – мои политические убеждения остались такими же примитивными и неизменными, как старый замшелый утес. Они настолько классические, что их можно назвать банальными. Свобода слова, свобода творчества. Проблема социальной или экономической структуры идеального государства меня не слишком волнует. Мои желания скромны. Портреты главы правительства своими размерами не должны превышать почтовую марку. Никаких пыток и казней. Никакой музыки, кроме звучащей в наушниках или исполняемой в театре.