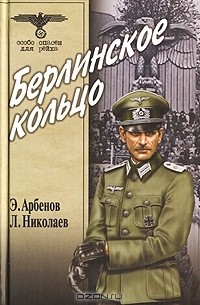Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
– Я покинул Ораниенбург осенью сорок третьего года…
Когда впервые мы услышали эту фразу, она не заставила нас насторожиться или хотя бы задуматься. Человек рассказал о себе, и ему незачем было подтасовывать факты, к тому же они соответствовали протоколу следствия. Почти слово в слово повторял он свои показания – все было взвешено, обдумано и выверено. Как выученный урок звучали слова. Собственно, иначе и нельзя если хочешь на суде добиться снисхождения, говори начистоту, помни, что существуют свидетели, существуют люди, документы, фотографии.
Ему нельзя было не верить, хотя он был шпион, диверсант, изменник. В прошлом, конечно. Немцы сбросили его на нашу землю в январе 1944 года. Между прочим, это тоже доказательство исчезновения человека из Ораниенбурга в самом конце сорок третьего года.
Он покинул секретную базу Главного управления имперской безопасности не один. Вместе с ним из Ораниенбурга выехал человек, следы которого мы сейчас ищем на пепелище Заксенхаузена с помощью Грюнбаха. Выехал живой, здоровый, и произошло это задолго до случая, рассказанного нам старым гравером. Нелепое смешение событий. Одно и то же лицо дважды оказывается в Ораниенбурге, месте, куда не входят по собственной воле и откуда нет дороги в обычный мир. Мы искали подробности одного события, а натолкнулись на целых два. Это было открытием, и довольно неожиданным. Но открытие произошло уже в Ораниенбурге во время встречи с Оскаром Грюнбахом. До этого мы жили рассказом, услышанным в небольшом южном городе, очень далеком от замка Фриденталь, настолько далеком, что никто здесь даже не знал о его существовании. Никто, кроме нашего собеседника.
Мы сидели в уютном номере скромной гостиницы, пили черный кофе и вспоминали прошлое. Вспоминали войну. Наш собеседник, уже немолодой человек, чуть подобревший от сытости и покоя, сидел, откинувшись на плетеном кресле, и неторопливо восстанавливал прошлое.
Поначалу нас смущала его непринужденность, его спокойный тон, которым он излагал принципы и методы диверсионной работы, способы нанесения удара. Потом мы понемногу свыклись с этим спокойным тоном, приняли человека таким, каким он предстал перед нами. Профессия накладывает отпечаток на характер, взгляды, чувства человека. К тому же о профессиональных тонкостях обычно говорят деловито и спокойно, иногда даже с развязностью. Он принял для себя равнодушие.
Ремеслу шпиона он учился у нацистов. Учился старательно, преуспевал, получил даже награду за успехи. В советский тыл был заброшен с секретным заданием. Каким, умолчал, не считает возможным разглашать тайну; ему присуще чувство ответственности, о котором он несколько раз упомянул в беседе.
Кто видел живого шпиона? Кто беседовал с ним? Нас преследовало желание заглянуть ему в глаза, пытливо, с жестоким намерением увидеть врага. Мы это делали и ничего не узнали. Глаза у него были карие, живые, умные, с хитринкой во взгляде, – и никакой злобы, ненависти, жестокости. Это сбивает с толку обычно, нас оно разоружило эмоционально.
Надо заранее знать, кто перед тобой, прочесть его биографию, иначе никогда не догадаешься о прежней профессии своего собеседника. А встретив его на улице, пройдешь мимо, как проходишь, не обращая внимания на самых заурядных людей, скромных по виду, вежливых и молчаливо предупредительных.
Шпионы неприметны. Это их особенность, которую видят лишь те, кто отбирает человеческий материал для определенной цели. Дефекты внешности, отличающие человека от остальной массы, являются препятствием. Шрамы на лице нужны только для исполнителей определенной роли. У нашего собеседника не было ни шрамов, ни заячьей губы, ни косоглазия, ни родимых пятен. Он был даже симпатичен и интересен как мужчина. Что примечалось в его облике – усталость, запечатленная во взгляде, в изгибе бровей, в складках губ. Усталость, граничащая с разочарованностью. Последнее можно было объяснить пережитым – он был наказан как диверсант и отсидел назначенный ему срок, довольно большой и суровый. Так поступают с изменниками и лазутчиками. Его могли расстрелять, и это было бы справедливо для военного времени, но люди даровали ему жизнь. Неудачи и тем более расплата разочаровывают, поселяют в душу досаду на себя, на других, на все существующее. И вот он, еще здоровый и даже молодой, принимает облик страдальца. У него есть семья, дети, друзья. Никто из них не знает истины и даже считает его жертвой судьбы или чьей-то несправедливости. Он молчит многозначительно. Иногда вздыхает, иногда грустно улыбается. Порой предается воспоминаниям, но без раскаяния и слез, без осуждения собственных поступков. Просто вспоминает для того, чтобы мысленно пережить еще раз что-то, особенно запечатлевшееся в сознании. Наша встреча дала ему возможность пережить многое, почти все. И он пользовался этой возможностью без ограничения, уходил далеко вглубь, но по той тропе, которая была ему удобна и приятна. Когда мы неожиданным вопросом сталкивали его с проторенной дорожки, он нервничал. Первый вопрос, вызвавший недовольство, прозвучал в середине беседы:
– Вы случайно не помните доктора Баумкеттера?
Он помнил. Фиксирующие центры действовали у него безотказно. Сказывалась профессиональная способность держать все в голове, не полагаясь на записи. Запись – это улика, это верный способ провалить дело. Однако, помня все, он выдал нам лишь частности, очень безликие, те, что не затрагивают человеческих чувств.
– Гейнц Баумкеттер дважды беседовал с нами о применении специальных патронов и даже демонстрировал их эффект.
– На людях?
– Нет… На собаке… – ответ был неточным. Наш собеседник не хотел сходить с тропы, чутьем угадал опасность и попытался удержаться на уже зафиксированной в протоколе следствия версии. Баумкеттер никогда не испытывал свое изобретение на животных, ему выделялись для опытов люди в любом количестве. Да и эффект на животном совсем иной, по нему нельзя ориентироваться.
– А на людях? – снова прозвучал наш вопрос. – На людях тоже демонстрировались специальные патроны?
Ответ последовал не сразу, после небольшой, но болезненной для нашего собеседника паузы.
– Конечно…
– Вам не довелось присутствовать?
Пауза оказалась еще продолжительней. Впервые за весь вечер он смутился. Взял со стола пачку «Фильтра», стал копаться в ней, выбирая сигарету. Потом принялся мять ее, внимательно разглядывая, и лишь после всех этих процедур поднес ко рту. Здесь вспомнил о нас, спросил:
– Я закурю?
К нам невольно пришла мысль о рефлексе: так поступают арестованные на следствии, и именно перед признанием. Подталкивать и напоминать уже не следует. Идет внутренняя работа, самостоятельная, и она даст нужные результаты. Поэтому мы молча ждали.
– Был однажды случай, – выдавил из себя наш собеседник. – Баумкеттер показал, как действует патрон.
– Вам одному?
– Нет. Присутствовал еще унтерштурмфюрер Брехт, инструктор из «Вальдлагеря-20». Стрелял Баумкеттер… Потом Брехт…
– В кого?
Наш собеседник затянулся, выигрывая время. Оно увеличилось оттого, что он пододвинул к себе пепельницу и стряхнул серую шапку с сигареты. Поднял глаза, виноватые отчего-то, словно взглядом просил понять причины еще неизвестного нам события.
– В туркестанца…
Присутствовать при убийстве соотечественника даже в качестве простого наблюдателя – небезобидное занятие. Он сознавал это. Мы понимали большее: Баумкеттер разрешил быть рядом постороннему только потому, что преподавал в тот день, преподавал убийство как предмет. Демонстрировал, учил, следовательно, разделял, свой поступок между многими.
– Вы знали этого туркестанца?
Наш собеседник вдруг взорвался. Не выдержали нервы. Сигарета сломилась между пальцами и, рассыпая веером золотистые крошки, полетела на ковер.
– Допрос?! Опять допрос… Меня уже обо всем спрашивали… Я устал, понимаете, устал давать показания…
Да, чертовски трудно потрошить собственную жизнь, такую, как у нашего собеседника. Есть вещи, которые нельзя признавать, и не только нельзя – небезопасно. Порой даже страшно.
Он пьет коньяк. Залпом. Не морщится, не облизывает губы, словно глотнул чистую воду. Мы наливаем еще. И снова мгновенное опустошение. Только дрожат мелко губы, теперь мы замечаем это. Неужели все-таки потревожена совесть? Значит, она есть у бывшего диверсанта! Или это только страх?
Он ставит рюмку на стол, твердо, со стуком. Говорит уже спокойно:
– Не знал.
– Может быть, его звали Исламбеком? Припомните! И успокойтесь. Все, что касается вас и вашего прошлого, лежит в стороне от наших интересов. Мы ищем Саида Исламбека, его следы. Только его. В протоколе следствия упоминается это имя.
Нервная усмешка скользнула по губам собеседника: он иронически воспринял высказанный нами довод. Все интересуются его прошлым, в этом он убежден. Да и как может быть иначе: шпион! И он торопится отсечь чужое любопытство коротким ответом.
– Я знал Саида Исламбека.
Наивный человек, он не оборвал цепочку вопросов, – наоборот, породил новые.
– Значит, не в него стрелял Баумкеттер?
– Нет. Не мог стрелять, если бы даже хотел. В то время Исламбека не было еще в Ораниенбурге. Притом я хорошо помню убитого туркестанца… Обросшее худое лицо, над лбом прядь седых волос… Его раздели перед выстрелом, и мы увидели две раны – на бедре и около плеча… А Исламбек не имел ни одного шрама, я проходил с ним санобработку накануне отъезда… И возраст не тот. В нашей группе все были молодыми и здоровыми, нам предстояло прыгать с самолета в трудных условиях, врачи очень придирчиво осматривали каждого, и в том числе Исламбека…
– Вы часто виделись с ним?
– Последние две недели – ежедневно… На занятиях сидели рядом, в столовой тоже… Я наблюдал за ним, теперь об этом уже можно сказать. Мне он казался подозрительным. Знаете, какой-то необычный, не как все. И занимался плохо, ничего не запоминал, даже не слушал инструкторов. Сам первый ни с кем не заговаривал, на вопросы товарищей отвечал уклончиво, какая-то забота тяготила его. Мы все думали о своем будущем и, уединившись, делились сокровенными мыслями, страх был в душе каждого – нам предстояло выполнить опасную операцию в советском тылу, а это риск, полная отдача сил и знаний. Чем лучше подготовлен курсант, чем лучше натренирован, тем больше шансов остаться живым. Исламбек не беспокоился о благополучном исходе выброски, парашют его не интересовал вовсе. Помню, он даже не явился на занятия, которые проводились на полигоне. Я сказал об этом инструктору князю Галицыну – был у нас такой русский эмигрант, старик лет шестидесяти. Именно ему сказал, с князем мне было легче объясняться, немецким языком я владел плохо. Галинын выслушал меня и попросил понаблюдать за Исламбеком. С того дня я стал тенью Исламбека, искал возможность остаться с ним наедине, поговорить откровенно. Компанию мою Исламбек принимал довольно охотно, но в разговоры не пускался и о себе ничего не рассказывал. Молчание его еще больше усилило подозрение и интерес. Однажды, примерно дня за три до отправки во Фриденталь, где размещалась наша школа, приехал на «мерседесе» доктор Ольшер. Мы хорошо знали его по Главному управлению СС, куда нас направляли перед зачислением на курсы особого назначения – Ораниенбург. Ольшер беседовал с будущими курсантами, проверял нас и распределял по спецлагерям. Он являлся начальником «Тюркостштелле», и все пленные туркестанцы были в его ведении. В Ораниенбурге я увидел его впервые, хотя находился здесь почти со дня основания разведшколы. Мы подумали, что приезд гауптштурмфюрера связан с нашей отправкой, и ждали встречи с ним. Но Ольшер даже не заглянул в наши комнаты, не поинтересовался занятиями по спецделу, которое всегда привлекало руководителей управления СС, – им хотелось знать, насколько мы подготовлены к выполнению задания. Он вызвал в кабинет одного Исламбека, переговорил с ним наедине и сразу же уехал в Берлин.
Я подумал: мой сигнал дошел до «Тюркостштелле» и капитан Ольшер решил проверить Саида Исламбека. Так и сказал князю вечером. Но Галицын не разделил моего предположения, странно как-то посмотрел на меня и сказал:
– Не надо заниматься этим парнем… У него свое задание.
Неудача несколько огорчила меня: попусту потратил время и вроде показал себя глупцом. Однако за Исламбеком продолжал присматривать. За день до выезда я удостоверился, что он действительно имеет особое задание. Мы все получили новое обмундирование советского образца – до этого носили форму чешской армии. Исламбек оделся в эсэсовский мундир со знаками отличия унтерштурмфюрера. Это совсем не вязалось с задачей, которая стояла перед группой, – мы должны были представлять собой отпускников Советской армии, демобилизованных по болезни, командированных для сопровождения призывников, а тут – офицер одного из батальонов особого назначения «Мертвая голова». И по документам, приготовленным для нас в спецотделе, он также назывался унтерштурмфюрером СС, инструктором радиодела. Меня это окончательно сбило с толку – в качестве кого может появиться на советской территории человек в эсэсовской форме и с документами, подтверждающими его принадлежность к разведцентру? Я уж подумал, не собираются ли руководители нашей школы бросить Исламбека как перебежчика или нашего пленного. Дерзкий и оригинальный план, но справится ли с задачей Исламбек? Я не видел в нем данных для осуществления подобного замысла – вял, спокоен, замкнут. Хотя перебежчики бывают всякие, такие, наверное, тоже.
В общем, до самого последнего часа нашего пребывания в замке Фриденталь Саид Исламбек оставался для меня загадкой. Загадкой явилось и событие, произошедшее на Берлинер ринге в тот же день, когда мы покинули Ораниенбург…