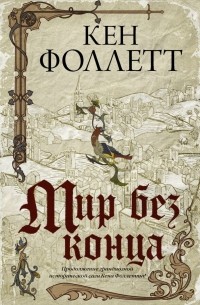Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
9
Книга Тимофея привела Годвина в восторг. История Кингсбриджского аббатства, как большинство подобных книг, начиналась с сотворения Богом земли и неба. Но основное внимание в ней уделялось эпохе аббата Филиппа двухсотлетней давности, когда построили собор. Это время монахи теперь считали золотым веком. Автор книги, брат Тимофей, утверждал, что легендарный Филипп исповедовал железную дисциплину, однако не был лишен сострадания. Годвин не совсем понимал, как такое может совмещаться в одном человеке.
В среду ярмарочной недели, во время занятий перед службой шестого часа, Годвин сидел на высоком табурете в монастырской библиотеке; перед ним на пюпитре лежала открытая книга. Это было его любимое место в аббатстве: просторное, очень светлое, с высокими окнами; в запертом шкафу почти сотня книг. Обычно здесь стояла полная тишина, но сегодня доносился приглушенный гул ярмарки – тысячи людей продавали, покупали, торговались, ссорились; всё перекрывали выкрики торговцев, любителей петушиных боев и травли медведей.
В конце книги позднейшие авторы прослеживали родословную потомков строителей собора вплоть до нынешнего дня. Годвин с радостью – и искренним удивлением – нашел подтверждение уверениям матери о том, что ее предками были Том Строитель и его дочь Марта. Интересно, какие фамильные черты они переняли от Тома. Каменщик должен быть ловким дельцом, и дед Годвина, а также дядя Эдмунд обладали этим качеством. Да и двоюродная сестра Керис тоже, кажется, не промах. Может, Том смотрел на мир такими же зелеными глазами с золотыми пятнышками, как и все они.
Годвин узнал также кое-что о пасынке Тома Строителя Джеке, архитекторе Кингсбриджского собора, который женился на леди Алине и стал родоначальником династии графов Ширингов. Он был предком возлюбленного Керис Мерфина Фитцджеральда. Похоже на правду: молодого Мерфина уже можно назвать выдающимся плотником. В Книге Тимофея упоминались даже рыжие волосы Джека, которые унаследовали сэр Джеральд и Мерфин. Ральф, правда, нет.
Больше всего Годвина заинтересовала глава, где говорилось о женщинах. Судя по всему, во времена аббата Филиппа в Кингсбридже не было монахинь. Женщинам строго-настрого запрещалось входить на территорию аббатства. Автор, цитируя Филиппа, уверял, что по возможности монаху вообще не стоит смотреть на женщин, ради его же блага. Филипп не одобрял общие монастыри, считая, что преимущества совместного хозяйства меркнут по сравнению с возможностями дьявола искушать людей. В таких монастырях, добавлял он, разделение братьев и сестер должно быть максимально строгим.
Годвина ободрила авторитетная поддержка его давно сложившегося мнения. В мужском обществе оксфордского Кингсбриджского колледжа он чувствовал себя хорошо. Университетскими преподавателями, как и студентами, были мужчины, без исключения. Он почти не разговаривал с женщинами семь лет, а по городу ходил с опущенными глазами, умудряясь их даже не видеть. А вот когда вернулся в аббатство, монахини стали ему мешать. Правда, у них имелась своя крытая аркада, трапезная, кухня и другие строения, но Годвин постоянно встречал их то в церкви, то в госпитале, то еще в каких-нибудь местах общего пользования. И сейчас хорошенькая молодая монахиня по имени Мэр, сидя всего в нескольких футах от него, справлялась по иллюстрированной книге насчет каких-то лекарственных трав. Еще хуже было встречать городских девушек в обтягивающих одеждах, с модными прическами, когда щеголихи свободно разгуливали по аббатству с разнообразными поручениями, приносили на кухню продукты или наведывались в госпиталь. Конечно, по сравнению с высокими принципами Филиппа аббатство пало. Вот ведь лишнее доказательство, что с Антонием монастырскую жизнь охватила какая-то всеобщая дряблость. Но возможно, ему удастся это исправить.
Прозвонил колокол на службу шестого часа, и ризничий закрыл книгу. Сестра Мэр, тоже захлопнув свой справочник, премило улыбнулась ему красными губами. Монах отвернулся и торопливо вышел.
Погода налаживалась: еще шел дождь, но пробивалось солнце. По небу неслись рваные облака, и витражи собора то вспыхивали, то мрачнели. Мысли Годвина тоже метались, отвлекая от молитвы. Он думал о том, как лучше использовать Книгу Тимофея, чтобы вдохнуть в аббатство новую жизнь, и решил поднять этот вопрос на ежедневном братском заседании капитула.
Строители уже много сделали после обрушения в минувшее воскресенье. Мусор убрали, часть собора отгородили веревками. В трансепт внесли и сложили в штабеля легкие каменные плиты. Работы продолжались и тогда, когда монахи запели. В течение дня было так много служб, что иначе строители застряли бы здесь навечно. Мерфин Фитцджеральд, отложив на время дверь, сооружал в южном приделе сложную конструкцию из веревок, перекладин и барьеров. Стоя на ней, каменщики будут выкладывать новый свод. Томас Лэнгли, отвечавший за строительство, беседовал в южном рукаве трансепта с Элфриком, указывая на обрушившийся потолок и, очевидно, обсуждая работу Мерфина.
Из Томаса вышел очень хороший помощник ризничего – решительный, требовательный. Когда строители по утрам опаздывали, что случалось нередко, он разыскивал их и выяснял, куда они запропастились. Если у него и имелся недостаток, так это излишняя независимость: редко докладывал Годвину о ходе дел или спрашивал его мнения – напротив, вел себя будто хозяин, а не подчиненный. Честолюбивого монаха глодало неприятное чувство, словно Томас недооценивает его способности. Возможно, старший Лэнгли – ему было тридцать четыре – считал, что Годвина, которому шел тридцать второй год, под давлением Петрониллы продвигает Антоний. Однако бывший воин ничем не показывал, будто уязвлен. Просто все делал по-своему.
Механически бормоча псалмы, ризничий увидел, что беседу Томаса с Элфриком прервали. В собор быстрым шагом вошел лорд Уильям Кастер, высокий чернобородый мужчина, очень похожий на своего отца и такой же резкий, хотя говорили, что иногда его гнев смягчает жена Филиппа. Он подошел к Томасу и кивком велел Элфрику отойти. Монах развернулся к Уильяму и снова стал похож на рыцаря Томаса Лэнгли, который пришел в аббатство, истекая кровью. Из-за той раны он, вероятно, и потерял руку.
Годвину было очень интересно, о чем идет беседа. Лорд Уильям наклонился вперед и говорил очень настойчиво, оживленно жестикулируя. Томас не испугался и отвечал твердо. Вдруг ризничий вспомнил, что Томас так же держался и десять лет назад, в день появления в аббатстве. Лэнгли беседовал с младшим братом Уильяма, Ричардом, тогда священником, а теперь епископом Кингсбриджа. Может, вздор, но Годвин почему-то решил, что сейчас они говорят о том же. Однако о чем? Что общего у монаха с благородным семейством? Да такого общего, которое за десять лет, кажется, ничуть не утратило своей важности? Лорд Уильям тяжелыми шагами вышел из церкви, очевидно, недовольный, и Томас вернулся к Элфрику.
Разговор десять лет назад кончился тем, что Лэнгли стал монахом аббатства. Годвин помнил: чтобы монастырь принял Томаса, Ричард пообещал некое пожертвование, однако впоследствии никогда больше ни о чем таком не слышал. Интересно, поступило ли оно. За все это время никто в аббатстве, кажется, ничего не узнал о прошлом нового брата, что странно: монахи любят посплетничать. Их было не много – сейчас двадцать шесть, – они постоянно общались и знали друг о друге почти все. У кого на службе состоял Лэнгли? Где жил? Большинство рыцарей имели несколько деревень, получая с них оброк, дававший возможность покупать лошадей, доспехи, оружие. Были ли у Томаса жена и дети? Если да, что с ними стало? Никто ничего не знал.
Если забыть о тайнах прошлого, Лэнгли стал прекрасным монахом, благочестивым и трудолюбивым. Казалось, иночество устраивало его больше, чем жизнь рыцаря. Хоть он и воевал, в нем было что-то мягкое, как во многих монахах. Тесно дружил с братом Матфеем, ласковым добрым человеком, на несколько лет моложе. Никому и в голову не приходило подозревать их в каких-то грехах.
Ближе к концу службы Годвин всмотрелся в мрак нефа и увидел мать. Петронилла стояла одна, неподвижно, как колонна, а солнечный луч освещал гордую седую голову. Интересно, сколько она уже здесь стоит, подумал ризничий. Миряне редко ходили на службы в будние дни, и монах, испытав смешанное чувство радости и тревоги, догадался, что родительница пришла к нему. Вспоминая, чем пожертвовала ради него гордая мать, он готов был рыдать от благодарности. И все же в ее присутствии всегда беспокоился, не мог отделаться от чувства, что сейчас его будут обвинять в каких-то прегрешениях. Когда монахи выходили, Годвин отделился от них и подошел к матери:
– Доброе утро, мама.
Петронилла поцеловала сына в лоб и сказала с тревогой в голосе:
– Ты похудел. Тебе хватает еды?
– Соленая рыба и каша, но много.
– Ты чем-то взволнован. – Она всегда видела его насквозь.
Годвин рассказал ей о Книге Тимофея.
– Может, прочесть эту главу на заседании капитула?
– А остальные тебя поддержат?
– Теодорик и молодые монахи – несомненно. Многие из них недовольны тем, что все время видят женщин. Все-таки они уходили от мира в мужское сообщество.
Мать одобрительно кивнула.
– Это выводит тебя на роль лидера. Великолепно.
– Кроме того, меня любят за горячие камни.
– Какие камни?
– Я ввел новые зимние правила. В морозные ночи перед утреней каждому выдают горячий, завернутый в тряпку камень. Ноги не так мерзнут.
– Очень умно. И все же прежде заручись поддержкой.
– Конечно. Но это в русле того, чему учили в Оксфорде.
– То есть?
– Человек слаб, нельзя полагаться на собственный разум. Мы не можем надеяться понять мир, наш удел – лишь изумленно взирать на творение Божье. Истинное знание приходит только в откровении. Мы не должны подвергать сомнениям принятую догму.
Петронилла слегка нахмурилась. Миряне часто так реагировали, когда ученые люди пытались объяснить им высокую философию.
– И в это верят епископы и кардиналы?
– Да. Парижский университет запретил труды Аристотеля и Фомы Аквинского, потому что они основаны не столько на вере, сколько на разуме.
– А такие рассуждения помогут тебе войти в милость к вышестоящим?
Только это ее и беспокоит. Она хотела, чтобы сын стал аббатом, епископом, архиепископом, даже кардиналом. Годвин хотел того же, но, надеялся, не так цинично.
– Уверен.
– Хорошо. Но я не для того к тебе пришла. Эдмунда постиг удар. Итальянцы могут переехать в Ширинг.
Годвин ахнул:
– Он же разорится.
Но монах пока не понимал, зачем родительница пришла с этим к нему.
– Мой брат надеется, что они останутся, если мы благоустроим шерстяную ярмарку и прежде всего снесем старый мост и построим новый, более широкий.
– Погоди-ка, но ведь Антоний отказал.
– Эдмунд не сдается.
– Ты хочешь, чтобы я поговорил с дядей?
Петронилла покачала головой:
– Его ты не переубедишь. Но если вопрос встанет на заседании капитула, поддержи Эдмунда.
– Пойти против дяди Антония?
– Всякий раз, когда старая гвардия будет принимать в штыки дельные предложения, в тебе должны видеть лидера реформаторов.
Годвин восхищенно улыбнулся:
– Мама, откуда ты столько знаешь про политику?
– Я тебе объясню. – Она отвернулась и уставилась на большую восточную розетку, перенесясь мыслями в прошлое. – Когда мой отец начал торговать с итальянцами, знатные горожане Кингсбриджа решили, что он выскочка. Задирали нос перед ним и его родными и делали все, чтобы помешать. Мать умерла, когда я была подростком, но отец стал рассказывать все мне. – Ее лицо, обычно бесстрастное, исказили горечь и обида: глаза сощурились, губы искривились, щеки горели от перенесенного некогда стыда. – Он понял, что не освободится, если не подомнет под себя приходскую гильдию. И вот как мы решили действовать. – Петронилла перевела дух, как будто снова собирала силы для длительной войны. – Мы ссорили вожаков, натравливали одну партию на другую, заключали союзы, затем их разрывали, беспощадно топили противников и использовали сторонников до тех пор, пока они были нам удобны, а затем бросали. Это заняло десять лет, но в конце концов отец стал олдерменом гильдии и самым богатым человеком города.
Мать уже рассказывала ему о деде, но никогда столь откровенно.
– Так ты ему помогала, как Керис Эдмунду?
Она жестко усмехнулась:
– Да. Только когда Эдмунд перенял дело, мы были самыми знатными горожанами. Мы с отцом поднялись на гору, а брат просто спустился по противоположному склону.
Их прервал Филемон, вошедший в собор из аркады. Высокий, с костлявой шеей, похожий на голубя, он нес ведро: в обязанности двадцатидвухлетнего служки входила уборка. Филемон был явно взволнован.
– Я искал вас, брат Годвин.
Петронилла сделала вид, что не замечает его состояния.
– Здравствуй, Филемон. Разве тебя еще не сделали монахом?
– Не могу внести необходимое пожертвование, мистрис Петронилла. Я ведь из скромной семьи.
– Но ради благочестивых послушников аббатство не раз отказывалось от пожертвований. А ты служка уже много лет, и на жалованье, и без.
– Брат Годвин предлагал меня, но некоторые старшие монахи выступили против.
– Карл Слепой ненавидит Филемона, не знаю почему, – вставил ризничий.
Петронилла пообещала:
– Я поговорю с братом Антонием. Он должен переубедить Карла. Ты верный друг моему сыну, и я хочу, чтобы ты стал монахом.
– Спасибо, мистрис.
– Ну что ж, ты, похоже, сгораешь от нетерпения сказать Годвину нечто наедине. Ухожу. – Она поцеловала сына. – Не забудь, о чем мы говорили.
– Не забуду, мама.
Годвин испытал облегчение, как будто грозовая туча прошла мимо, разразившись над кем-то другим. Как только Петронилла отошла, Филемон прошептал:
– Епископ Ричард!
Ризничий поднял брови. Филемон умел вызнавать чужие секреты.
– Что епископ Ричард?
– Он в госпитале, в одной из отдельных комнат наверху, со своей двоюродной сестрой Марджери!
Хорошенькой Марджери было шестнадцать лет. Ее родители – младший брат графа Роланда и сестра графини Марр – умерли, и девочку взял на воспитание Ширинг. Теперь он хотел выдать ее замуж за сына графа Монмаута. Этот союз существенно укрепил бы положение Роланда как самого влиятельного человека в Юго-Западной Англии.
– И что они там делают? – спросил Годвин, хотя уже догадывался.
Служка понизил голос:
– Целуются!
– Откуда ты знаешь?
– Я покажу.
Филемон двинулся к выходу через южный рукав трансепта. Пройдя через крытую аркаду мужского монастыря, оба по лестнице поднялись в дормиторий, бедно обставленное помещение, где в два ряда стояли простые деревянные кровати с соломенными матрацами. Через стену располагался госпиталь. Филемон подошел к широкому комоду, в котором хранились одеяла, и с трудом отодвинул его. За ним из стены вынимался камень. Интересно, как служка его обнаружил, тут же подумал Годвин и решил: наверное, что-то там прятал. Проныра осторожно, стараясь не шуметь, вынул камень и прошептал:
– Смотрите, скорее!
Годвин помедлил и тихо спросил:
– И за кем ты еще подсматривал?
– За всеми, – удивившись вопросу, ответил тот.
Монах понимал, что сейчас увидит, и испытал неприятное чувство. Подглядывать за негодным епископом, может, нормально для Филемона, но постыдно и ниже достоинства ризничего. Однако любопытство подстегивало. В конце концов он спросил себя, что сказала бы мать, и сразу понял: нужно смотреть.
Отверстие в стене располагалось чуть ниже уровня глаз. Годвин пригнулся. В углу одной из гостевых комнат над госпиталем, перед фреской с изображением Распятия, стояла скамеечка для молитвы, два удобных кресла и несколько табуретов. Когда съезжалось много важных гостей, мужчинам отводили одну комнату, женщинам – другую. Это была явно женская комната, так как на столике виднелись элегантные гребни, ленты и таинственные кувшинчики и флакончики.
На полу на одном из двух соломенных матрацев лежали Ричард, красивый, с волнистыми каштановыми волосами и правильными чертами лица, и Марджери, почти вдвое моложе его, худенькая, с белой кожей и темными бровями. Они не просто целовались.
Епископ целовал ее и что-то нашептывал на ухо. На полных губах девушки играла улыбка. Из-под задранного платья торчали красивые длинные белые ноги, между которыми лежала рука опытного Ричарда. Хотя Годвин и не имел женщин, но почему-то знал, что тот делает. Марджери, приоткрыв рот, влюбленными глазами смотрела на двоюродного брата и тяжело дышала, ее лицо пылало. Может, из-за сладких речей, но Годвин решил, что для Ричарда Марджери игрушка, а та считает, будто он полюбил ее на всю жизнь. Ризничий в ужасе замер. Вдруг Ричард убрал руку, Годвин увидел волнистые волосы и быстро отвернулся.
– Можно, я посмотрю? – попросил Филемон.
Годвин отодвинулся. Это ужасно, но что же теперь делать? И делать ли вообще что-нибудь? Служка приник к дырке и возбужденно прошептал:
– Он ее гладит.
– Хватит, – отрезал Годвин. – Мы достаточно видели. Даже слишком.
Филемон помедлил, затем неохотно отошел и вернул камень на место.
– Мы должны немедленно сообщить о поведении епископа!
– Заткнись и дай подумать, – шикнул монах.
Послушав Филемона, он наживет себе врагов в лице Ричарда, его могущественных родственников и ничего не добьется. Но несомненно, существует способ обратить ситуацию себе на пользу. Годвин попытался рассуждать, как мать. Если ничего не выиграть разоблачением, то, может быть, поставить на молчание? Наверно, Ричард будет благодарен, если тайну сохранят. Такой ход показался более удачным. Но для этого епископ должен знать, что Годвин покрывает его грех.
– Пойдем, – кивнул он Филемону.
Служка придвинул комод к стене. Интересно, слышно ли в соседней комнате, как двигают мебель, подумал ризничий. Вряд ли; кроме того, Ричард и Марджери так увлеклись, что им не до шума.
Спустились вниз. В гостевые комнаты вели две лестницы: одна располагалась в госпитале, другая снаружи, что позволяло важным гостям миновать помещения, где ходили простые люди. Годвин быстро поднялся по наружной лестнице. Перед комнатой замедлил шаг и тихо приказал Филемону:
– Иди следом. Ничего не предпринимай. Молчи. Уйдешь вместе со мной.
Служка поставил ведро на пол.
– Нет, – замотал головой монах. – Возьми.
– Хорошо.
Толкнув дверь, ризничий вошел и громко заговорил:
– Нужно как следует убрать эту комнату. Вылизать все углы… О, простите! Я думал, здесь никого нет.
Время, которое потребовалось Годвину и Филемону, чтобы перейти из дормитория в госпиталь, любовники потратили недаром. Ричард уже лежал поверх Марджери, ее стройные ноги торчали вверх. Понять эту мизансцену превратно было сложно. Епископ замер и посмотрел на Годвина возмущенно, испуганно и виновато одновременно. Марджери вскрикнула и тоже уставилась на вошедшего. Тот выдержал паузу.
– Епископ Ричард! – наконец воскликнул ризничий, изображая изумление. У того не должно остаться никаких сомнений в том, что он узнан. – Но что вы… и Марджери? – Монах будто только теперь все понял. – Простите! – Он развернулся и крикнул Филемону: – Пошел! Прочь!
Служка шустро выбежал из комнаты, гремя ведром. Годвин вышел следом, но в дверях еще раз обернулся. Ричард должен его запомнить. Любовники так и не пошевелились, но Марджери прикрыла рот рукой – аллегория застигнутого преступника, – а выражение лица епископа свидетельствовало о том, что он судорожно соображает. Хотел что-то сказать, но никак не мог придумать что. Наконец Годвин решил оставить их в этом ужасном положении. Сделано все, что нужно.
Однако, выйдя и не успев даже закрыть дверь, он застыл от страха. По лестнице поднималась Филиппа. Монах тут же понял, что, если о тайне узнает кто-нибудь еще, секрет резко упадет в цене. Нужно предупредить Ричарда.
– Леди Филиппа! – громко поздоровался он. – Добро пожаловать в Кингсбриджское аббатство!
Из комнаты послышалось шуршание. Краем глаза ризничий отметил, что Ричард вскочил. По счастью, Филиппа не сразу прошла к себе, а заговорила с Годвином.
– Вы не могли бы мне помочь? – Оттуда, где стояла леди, не было видно, что происходит в комнате. – Я потеряла браслет. Не очень дорогой, просто резьба по дереву, но я его очень люблю.
– Как неприятно, – сочувственно ответил Годвин. – Я велю братьям и сестрам поискать.
– Я не видел, – встрял Филемон.
– Может, он соскользнул у вас с руки? – спросил монах.
Супруга лорда Кастера нахмурилась.
– Странно, я не надевала его, как приехала. Поднявшись в комнату, первым делом сняла браслет и положила на стол, а теперь не могу найти.
– Может, закатился куда-нибудь в угол. Филемон поищет. Он убирает гостевые комнаты.
Филиппа посмотрела на служку:
– Да, я видела тебя, когда уходила, примерно час назад. Он тебе не попадался, когда ты подметал?
– Я еще не подметал. Как раз пришла мисс Марджери, и мне пришлось прерваться.
– Филемон вернулся, чтобы убрать вашу комнату, но мисс Марджери… – аббат заглянул в комнату, – молится.
Девушка с закрытыми глазами преклонила колени на скамеечке – вероятно, просит прощения за свой грех, с надеждой подумал Годвин. Ричард стоял позади, сложив руки и что-то бормоча. Ризничий отступил в сторону, давая Филиппе пройти. Та подозрительно взглянула на деверя.
– Здравствуй, Ричард. Ты обычно не молишься по будням.
Он приложил палец к губам, указывая на Марджери. Леди не смутилась:
– Марджери может молиться, сколько ей угодно, но это женская комната, поэтому, пожалуйста, выйди.
Епископ, ничем не выдав облегчения, вышел, закрыл дверь, развернулся и уткнулся в Годвина. Может, он и хотел возмутиться, что тот осмелился войти в комнату, не постучав, но чувство вины, видимо, мешало ему с криком наброситься на монаха. С другой стороны, епископ не мог попросить сохранить тайну, ведь тем самым он оказался бы в полной власти ризничего. Повисло гнетущее молчание. Не дав Ричарду оправиться, Годвин сказал:
– Никто ничего не узнает.
Епископ облегченно вздохнул и перевел взгляд на служку:
– А он?
– Филемон хочет стать монахом. Он постигает добродетель послушания.
– Я у вас в долгу.
– Каждый должен исповедовать свои грехи, не чужие.
– И все же я благодарен, брат…
– Годвин, ризничий. Племянник аббата Антония. – Ричард должен знать, что он не с улицы и может наделать шума. Но чтобы угроза стала несомненной, добавил: – Много лет назад, прежде чем ваш отец стал графом, моя мать была с ним помолвлена.
– Я слышал об этом.
Годвин хотел еще сказать: «И ваш отец бросил мою мать, так же как вы бросите несчастную Марджери». Но вместо этого учтиво закруглился:
– Мы могли бы быть братьями.
– Да.
Прозвучал колокол на обед. Троица с облегчением разошлась: епископ направился к дому аббата Антония, Годвин – в монашескую трапезную, а Филемон – на кухню, где помогал подавать.
Подходя через крытую аркаду, заговорщик думал. Его возбудила животная сцена, но, кажется, он поступил правильно. Вроде бы Ричард поверил.
Хранитель тайны сел за стол рядом с Теодориком, бойким монахом на пару лет моложе. Тот не учился в Оксфорде и, следовательно, смотрел на ризничего снизу вверх. Годвин держался с ним как с равным, что льстило Теодорику.
– Только что прочитал, тебе будет интересно. – И хитрец вкратце поведал ему об отношении досточтимого аббата Филиппа к женщинам вообще и монахиням в частности. – Ты уже давно об этом говоришь.
На самом деле Теодорик никогда не высказывался по этому вопросу, но всегда соглашался с более образованным товарищем, недовольным нерешительностью аббата Антония.
– Конечно. – У Теодорика были голубые глаза и светлая кожа, покрасневшая теперь от волнения. – Как мы можем очистить помыслы, если нас постоянно отвлекают женщины?
– Но что же делать?
– Нужно выступить против аббата.
– Ты имеешь в виду, на заседании капитула? – спросил Годвин, как будто это была идея Теодорика. – Да, блестящий план! Но поддержат ли нас остальные?
– Молодые – да.
Молодежь почти всегда критикует старших, подумал ризничий. Кроме того, он знал, что многие монахи тоже предпочли бы монастырь без женщин или такой, где их по крайней мере не видно.
– Если будешь говорить с кем-нибудь до заседания капитула, дай мне знать, как к этому отнесутся.
Теперь Теодорик обойдет всех и будет просить поддержки. Внесли тушеную соленую рыбу и фасоль. Не успел Годвин дотронуться до еды, как встрял Мёрдоу – монах в миру.
Странствующие монахи жили среди мирян, считая, что ведут более праведную жизнь, чем затворники в монастырях, чей обет нестяжания под тяжестью роскошных построек и крупных земельных владений трещал по швам. Монахи в миру не имели собственности, даже церквей – хотя многие отступали от идеала, принимая от благочестивых почитателей земли и деньги. Сохранявшие же верность изначальным принципам жили подаянием и спали на кухнях. За проповеди на рынках и у таверн им бросали мелкие монеты. Но при необходимости они без колебаний столовались и ночевали в монастырях у обычных монахов. Неудивительно, что их убежденность в собственной святости воспринималась остальной братией в штыки.
Мёрдоу был особенно противным: жирный, грязный, жадный, часто пьяный, нередко его видели в компании проституток. Но этот талантливый оратор умел удерживать внимание сотен людей своими красочными, хоть и сомнительными с богословской точки зрения проповедями. Теперь он без знака высших иерархов встал и начал громко молиться:
– Отче, благослови эту пищу для наших бренных падших тел, полных греха, как мертвый пес полон червей…
Молитвы Мёрдоу, как правило, всегда были длинными. Годвин со вздохом отложил ложку.
На заседаниях капитула всегда читали вслух – обычно из правила святого Бенедикта, но часто из Библии и других священных книг. Когда монахи заняли места на покатых каменных скамьях, расположенных кругом в восьмиугольном здании, Годвин подошел к молодому брату, который должен был читать, и спокойно, но твердо сказал, что сегодня это послушание он выполнит сам, и в нужный момент зачитал тот самый отрывок из Книги Тимофея.
Ризничий нервничал. Он вернулся из Оксфорда год назад и с того времени потихоньку шептался по углам о реформировании аббатства, но до сих пор открыто против Антония не выступал. Аббат слаб и ленив, его нужно вывести из апатии. Более того, святой Бенедикт писал: «На заседания капитула нужно приглашать всех, ибо Господь часто открывает пути юным». Годвин вполне имел право поднять на заседании вопрос о более строгом соблюдении монашеского устава. И все же вдруг испугался. Следовало тщательнее продумать, как тактически использовать Книгу Тимофея. Но теперь уже поздно. Ризничий закрыл книгу.
– У меня вот какой вопрос к самому себе и к братии: не пали ли мы по сравнению с эпохой аббата Филиппа в том, что касается разделения братьев и сестер?
На студенческих дебатах он научился тому, что лучше всего выдвигать свой тезис в форме вопроса, отнимая тем самым у противника возможность возразить.
Первым ответил Карл Слепой, помощник и сторонник настоятеля.
– Некоторые монастыри расположены вдали от населенных пунктов, или на необитаемом острове, или в лесу, или высоко в горах, – неторопливо начал он. – В таких обителях братия отрешена от всяких контактов с миром. Кингсбридж всегда был другим. – От его взвешенных слов Годвин заерзал. – Мы находимся в центре большого города, где живут семь тысяч душ. Служим в одном из самых прекрасных христианских соборов. Многие из нас являются врачами, поскольку святой Бенедикт сказал: «Особо нужно заботиться о больных, ибо каждый поступок монаха должен напоминать о самом Христе». Мы лишены роскоши полной изоляции. Господь предназначил нас для другой миссии.
Возмутитель монастырского спокойствия ожидал чего-либо подобного. Карл терпеть не мог, когда переставляли мебель, просто натыкался на нее. Так же он противился любым переменам, опасаясь спасовать перед неизвестностью. Теодорик быстро возразил:
– Тем более мы должны строже соблюдать правила. Живущий рядом с таверной должен особенно старательно избегать винопития.
Монахи одобрительно загудели: они любили остроумные ответы. Годвин кивнул Теодорику, белое лицо которого порозовело от благодарности. Расхрабрившийся послушник по имени Юлий громко прошептал:
– Чего Карлу женщины, он их не видит.
Кто-то из монахов рассмеялся, но многие неодобрительно покачали головой. Годвин решил, что все идет хорошо. Вроде пока чаша весов клонится в его сторону. Тут заговорил аббат Антоний:
– Что именно ты предлагаешь, брат Годвин?
Дядя не учился в Оксфорде, но неплохо умел заставить противника выложить карты на стол. Годвин неохотно ответил:
– Может быть, стоит вернуться к правилам времен аббата Филиппа?
– Что ты хочешь этим сказать? Никаких монахинь?
– Да.
– И куда же им деваться?
– Женский монастырь можно перенести в другое место, он мог бы стать уединенной обителью аббатства, как Кингсбриджский колледж или братство Святого Иоанна-в-Лесу.
Все заволновались. Поднялся шум, с которым аббату не сразу удалось справиться. Раздался голос старшего врача Иосифа, умного, но гордого человека, которого Годвин остерегался.
– Как же мы управимся с госпиталем без монахинь? – Из-за плохих зубов старший брат пришепетывал, отчего казалось, что он пьяный. Но говорил при этом весьма твердо. – Они разносят лекарства, меняют повязки, кормят тяжелобольных, причесывают дряхлых стариков…
Теодорик заметил:
– Все это могут делать монахи.
– А роды? Часто женщинам трудно произвести на свет ребенка. Как же братья станут помогать им совершать подобное… действие?
Многие закивали, но Годвин, предвидевший этот вопрос, предложил:
– А если сестры переедут в старый лепрозорий?
Прокаженным в свое время отвели небольшой остров на реке к югу от города. Когда-то в нем было полно несчастных, но проказа, похоже, исчезла, и теперь там жили только двое престарелых монахов. Остроумный брат Катберт пробормотал:
– Не хотел бы я сообщить матери Сесилии о том, что ей придется поселиться в лепрозории.
Послышался смех.
– Женщинами должны править мужчины, – заметил Теодорик.
– И матерью Сесилией правит епископ Ричард, – возразил Антоний. – Ему и принимать подобные решения.
– Да не допустят этого небеса, – раздался голос казначея Симеона. Этот худой человек с продолговатым лицом выступал против любых предложений, связанных с расходами. – Мы не сможем жить без монахинь.
– Почему? – удивленно спросил Годвин.
– У нас мало денег, – быстро ответил казначей. – Когда нужно восстанавливать собор, как вы думаете, кто платит строителям? Не мы – мы не можем. Платит мать Сесилия. Она же покупает все для госпиталя, пергамент для скриптория, лошадиный корм. За все, чем братья и сестры пользуются совместно, платит настоятельница.
Годвин сник.
– Как же это возможно? Почему мы так зависим от них?
Симеон пожал плечами:
– Уже много лет благочестивые жены завещают женскому монастырю земли и другое имущество.
Но это не вся правда, ризничий был уверен. У монахов тоже немало источников доходов. Важно, как ими распоряжаться. Однако сейчас поднимать подобный вопрос нельзя, а других аргументов он найти не мог. Затих даже Теодорик. Антоний примирительно сказал:
– Ладно, крайне интересный разговор. Спасибо, брат Годвин. А теперь давайте помолимся.
Реформатор был слишком зол, чтобы молиться. Он ничего не добился и побаивался, что совершил ошибку. Когда монахи выходили, Теодорик испуганно посмотрел на собрата:
– Я не знал, что сестры дают так много денег.
– А кто ж знал, – ответил Годвин и, поймав себя на том, что с ненавистью смотрит на Теодорика, поспешил добавить: – Но ты был великолепен. Спорил с ними лучше, чем оксфордские мужи.
Теодорик расцвел.
В это время суток монахам полагалось заниматься в библиотеке или с молитвой прогуливаться по аркаде, но у Годвина имелись другие планы. За обедом и на заседании капитула его неотвязно преследовала одна мысль. Возмутитель спокойствия гнал ее, так как внимания требовали более важные вопросы, но теперь пришел к выводу, что пора проверить свою догадку о том, куда подевался браслет леди Филиппы.
Какие тайники могут быть в монастыре? Монахи спали в общем дормитории, отдельной комнатой располагал только аббат. Даже в отхожем месте братья сидели рядышком над корытом, промывающимся проточной водой из трубы. Им не дозволялось личное имущество, ни у кого не было ни шкафа, ни даже ящика. Но сегодня Годвин увидел настоящий тайник.
Ризничий поднялся в пустой дормиторий, отодвинул комод с одеялами и вынул камень. Стараясь не смотреть в отверстие, Годвин вслепую пошарил, очертив рукой круг. Нащупав справа небольшую щель, просунул туда пальцы и натолкнулся на какой-то предмет – не камень и не застывший строительный раствор. Подцепив находку пальцами, вытащил деревянный резной браслет.
Годвин поднес его к свету. Прочное дерево – может быть, дуб. Внутренняя сторона отполирована, а на внешней аккуратно вырезан замысловатый орнамент из квадратов и диагоналей. Ризничий понял, почему леди Филиппа так любит этот браслет. Монах положил его обратно, задвинул камень и вернул комод на место. Что прохвост собирается с ним делать? Может, конечно, продать за пару пенни, хотя это опасно, потому что браслет легко узнать. Но служка точно не сможет его носить.
Годвин вышел из дормитория и спустился по лестнице во дворик аркады. Он был не в настроении ни заниматься, ни молиться. Ему нужно поговорить о том, что сегодня произошло. Необходимо повидать мать. Она, разумеется, может выбранить его за провал на заседании капитула, но наверняка похвалит за епископа Ричарда. Ему очень хотелось рассказать эту историю. Сыщик и хранитель тайны отправился ее искать.
Строго говоря, это не разрешалось. Монахи не могли разгуливать по городу в свое удовольствие. Нужна причина, и формально, прежде чем выйти за территорию монастыря, они должны спрашивать разрешения аббата. Но у монахов, выполняющих определенные послушания и занимающих некоторые должности, имелись десятки таких причин. Аббатство постоянно вело дела с торговцами – покупало продукты, ткани, обувь, пергамент, свечи, садовые инструменты, лошадиный корм и прочие необходимые товары. Кроме того, оно владело землями почти всего города. А врача могли позвать к больному, который сам не в состоянии прийти в госпиталь. Так что братья на улицах встречались, и с ризничего вряд ли потребуют объяснения, что он делает за пределами монастырских стен. Тем не менее следовало соблюдать осторожность, и, выходя из аббатства, Годвин убедился, что его никто не видит. Он прошел через оживленную ярмарку по главной улице к дому дяди.
Как он и надеялся, Эдмунд и Керис ушли по делам, и, не считая слуг, Петронилла была одна.
– Вот так утешение для матери. Вижу тебя второй раз за день! Заодно и покормлю. – Она налила ему большую кружку крепкого эля и велела кухарке принести блюдо с холодной говядиной. – Как прошло заседание капитула?
Сын подробно ей рассказал, прибавив в конце:
– Я слишком поторопился.
Она кивнула:
– Мой отец всегда говорил: «Никогда не назначай встречу, если не уверен в ее исходе».
Годвин улыбнулся:
– Я это запомню.
– Ну, не важно, думаю, хуже ты не сделал.
Монах с облегчением вздохнул. Мать не рассердилась.
– Но у меня больше нет аргументов.
– Ты заявил о себе как о реформаторе.
– Но при этом выставил себя полным дураком.
– Все лучше, чем ничтожество.
Годвин не был в этом уверен, но, как обычно, сомневаясь в мудрости материнских советов, не стал с ней спорить, а решил подумать потом.
– Еще кое-что интересное.
И Годвин рассказал про Ричарда и Марджери, опустив грубые физиологические подробности. Петронилла удивилась.
– Ричард, должно быть, с ума сошел. Если граф Монмаут узнает, что она не девственница, помолвка будет расторгнута. Граф Роланд придет в ярость. Ричарда могут лишить сана.
– Но ведь у многих епископов есть любовницы?
– Это другое дело. Священник может иметь экономку, которая, по сути, является его женой во всем, кроме названия. У епископа таких может быть несколько. Но лишить девственности знатную невесту незадолго до свадьбы… Даже графскому сыну трудно надеяться после такого остаться клириком.
– И как ты думаешь, что мне делать?
– Ничего. Пока ты действовал превосходно. – Сияя от гордости, она добавила: – В один прекрасный день у тебя будет мощное оружие. Просто не забывай об этом.
– И еще. Я думал, как же Филемон отыскал этот камень, который отходит, и решил, что он уже давно использует его как тайник. И оказался прав: нашел там браслет, который потеряла леди Филиппа.
– Интересно. Сдается, что этот служка будет тебе полезен. Он готов на все, понимаешь? Без совести, без морали. У моего отца был приятель, который делал за него всю грязную работу – распускал слухи, ядовитые сплетни, плел интриги. Такие люди бесценны.
– Думаешь, не нужно докладывать о краже?
– Разумеется, нет. Заставь его вернуть браслет, если считаешь, что это важно. Пусть скажет, что нашел его, когда подметал комнату. Но не выдавай. Гарантирую, ты пожнешь богатый урожай.
– Так что же, мне покрывать его?
– Как бешеную собаку, которая бросается на грабителей. Такие псы опасны, но без них не обойтись.