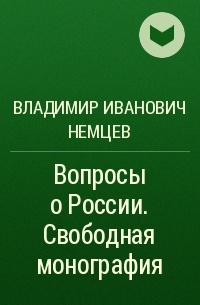Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 3. Становление России
У Великого княжества Московского имелось и более короткое название – Московия, которым обычно иностранцы долго обозначали Россию. Менее распространено в истории название Московская Русь, но так называли свою страну только великороссы – русские, живущие на северо-восточных землях восточных славян. Многие языки мира вообще не различают Русь и Россию, русских и украинцев с белорусами, да и вообще русских от россиян.
Отчего мы семью, куда входят разные поколения, не признаём неизменным во времени родовым образованием – не потому ли, что семья развивается у всех на глазах: личности разных возрастов и поколений сменяются относительно быстро, – а страну и нацию привыкли считать неизменными? Но ведь это совершенно устарелое представление! В цивилизованных нациях понятие родов – атавизм. И нация здесь выражает отнюдь не неизменный в веках организм. Действительно, американцы США, уничтожившие более двухсот лет тому назад десятки миллионов индейцев в ходе покорения Северной Америки, сегодня считают постыдным показывать свою агрессивность в любых проявлениях. А попробуйте назвать современного шведа или норвежца викингом – они улыбнутся. И в самом деле, разве они похожи на средневековых «рэкетиров», отбиравших товары у купцов?
Нет, нации перманентно меняются, как люди, как их семьи, чередуя предков с потомками, обновляя разные поколения. Только семьи меняются медленнее людей, а нации – ещё незаметнее. И утверждения о ныне существующих «древних нациях» есть миф, в котором чаще всего нуждаются политические силы, и особенно самодержавия.
И поэтому русская нация, формирующаяся при царе Алексее Михайловиче и созданная при Петре Великом, а осознавшая себя при Николае I – это совсем не Российская федерация, которую порой сегодня поспешно называют «великой». Это определение ещё надо заслужить, как титул, осторожно опираясь на славу предков.
И нельзя по-славянофильски считать образцовыми русскими людьми кочевническое племя московитов времён Ивана Грозного, облачённых в восточные халаты персидского покроя. Да и образцовых наций вообще не существует. Это такой же миф, как «идеальный мужчина», «лучшая собачья порода», «красивейшее место на земле» – всё понятия из области личных предпочтений.
Поэтому обратимся лучше к почётным званиям, которые выбирали себе разные правители Руси, Московии, России. В титулах русских царей хорошо отражены изменения государственного устройства. Иван III называл себя «Великим князем» и «Государем всея Руссии», а также «Божией милостию Государем всея Руси». Василий III в основном повторил этот титул, а вот Иван IV уже зовётся «Великим Государем Царём и Великим Князем Иваном Васильевичем всея Руси». Фёдор Иоаннович повторяет титул, заменяя только «Русь» на «Россию», что было первым употреблением нынешнего названия государства. Борис Годунов возвращает «Русию», а Лжедмитрий I – «Россию». Борис Годунов, правда, ещё вводит определение «Самодержец», Василием Шуйским и Михаилом Фёдоровичем Романовым возвращённое уже окончательно. Василий Иванович Шуйский делает свой краткий титул даже более «старомодным»: «Божиею милостью Великий Господарь Царь и Великий князь Василий Иванович всея Руси самодержец». Алексей Михайлович возвращается к России, а с императорского титула Петра Первого появляется тоже окончательное самоназвание «Император и Самодержец Всероссийский». Под Всероссийским имелись в виду «Великие и Малые и Белые России», как в титуле его отца.
Таким образом, ныне ещё существует, в традиционном их понимании, три России: Российская Федерация (Великая Россия), Украина (Малая Россия) и Белоруссия. Сам Пётр утвердил разговорное и обычное именование своей страны, как Россия, значит, страна россов.
А если говорить о самом начале Российской империи, то в XVIII веке видятся четыре события, способствующие началу становления русского общества граждан: а) обращено внимание царя на светское образование подданных; б) появилась периодическая печать в 1703 году; в) возникла Академия наук, члены которой, в первую очередь М.В.Ломоносов, стали переходить на написание своих трудов с латыни на русский; г) Екатерина II провозгласила вольность дворянства.
Всё это несло как положительный, так и отрицательный потенциал обществу и культуре. Впрочем, первого, по счастью, было больше. Прежде всего, возникла примитивная общественная жизнь. Вот как описывает её признаки в 1795 году мемуарист: «Модный московский свет, наряду с петербургским, размежевался на два отделения: в одном отличались англоманы, в другом галломаны. В Петербурге было более англоманов, то есть, любителей поверий английских; в Москве было более галломанов. В модных домах появились будуары, диваны, и с ними начались истерики, мигрени, спазмы и т. д. Из обветшалой Франции XVIII столетия нахлынуло к нам волокитство <…>. Как будто бы для сбережения своих сердец, щеголихи большого света надели золотые цепи. Это, однако же, была не парижская мода, а своя – московская. В утренние разъезды и на обеды ездили с гайдуками, скороходами, на быстрых четвернях и шестерных.
Вечером – домашние театры, где большею частию играли французские комедии, балы, и маскарады, по воскресеньям и в праздничные дни под Донским были кулачные схватки, пляски, хоры песельников и санный бег. В честь победителя раздавались рукоплескания. По ночам кипел банк. Тогда уже ломбарды более и более затеснялись закладом крестьянских душ. Быстры, внезапны были переходы от роскоши к разорению. И у нас в большом cвeте завелись менялы. Днём разъезжали они в каретах по домам с корзинками, наполненными разными безделками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья, а вечером увивались около тех счастливцев, которые проигрывали свое имение и выманивали у них почётное подаяние. <…> Москва пировала в полном разгуле жизни весёлой. В заграничном европейском мире гремело оружие республиканских легионеров и на полях Италии, и на берегах Рейна, а в пределах древней Батавии развевались знамёна трёхцветные; но для нас всё это было на краю какого-то другого света…».
Эти живописные картины словно бы прокомментировал Константин Аксаков, публицист-славянофил, поэт, критик, который в 1857 году в газете «Молва» опубликовал саркастичный «Опыт синонимов»: «Было время, когда у нас не было публики <…>, а был народ. <…> Публика – явление чисто западное, и была заведена у нас вместе с разными нововведениями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью. Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Западом; выписывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется перед ними, как перед учителем, занимает у него мысли и чувства, платя за это огромною ценою: временем, связью с народом и самою истиною мысли. Публика является над народом, как будто его привилегированное выражение; в самом же деле публика есть искажение идеи народа. <…> Публика подражает и не имеет самостоятельности: всё, что принимает она, чужое, – принимает она наружно, становясь всякий раз сама чужою. Народ не подражает и совершенно самостоятелен; а если что примет чужое, то сделает это своим, усвоит. У публики своё обращается в чужое. У народа чужое обращается в своё. <…> Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас – почтеннейшая, а народ – православный. Публика, вперед! Народ, назад! так воскликнул многозначительно один хожалый».
Комментарий этот любопытен прежде всего тем, что «народ», точнее, простонародье, определяется Аксаковым как ведущая часть общества. Но кáк до падения крепостного права, да и долгое время ещё после него, бóльшая часть общества могла лидерствовать, находясь в рабстве, и не только помещичьем, но ещё и монгольском, то есть, главным образом, в рабстве моральном? Впрочем, Лев Толстой позже показал читателю такого крестьянина, Платона Каратаева, который своим безграничным терпением и верой внушал окружающим уверенность и духовную силу, да только появился этот герой в исключительных обстоятельствах великой освободительной войны, а жить окружающим предстояло в привычных рутинных условиях, не помышляя о чём-либо ином. И какие же идеи для общества мог породить Каратаев, если жизнь его никак не менялась, да и он не хотел её менять и хоть немножечко улучшать. Он не гражданин, а вариант «послушника».
Точно такие, как Каратаев, жили и в XVIII веке, этот типаж ничем не поколебали десятилетия и эпохи. Какие-либо изменения могли происходить лишь в верхушках общества, и сколько же этих изменений было в это бурное, яркое, даже блестящее столетие. Изменения эти касались, впрочем, моды, перечня прочитанных французских и английских книг, привезённых кем-то иностранных вещичек… Так продолжалось вплоть до войны с Наполеоном Бонапартом, которая стала отечественной после Бородинского сражения.
До этого русские офицеры имели обыкновение между боями развеивать скуку на вечеринках у французских офицеров, а также принимать запросто своих французских «визави» у себя… Общение стало почти родственным, и только после Бородина молодые дворяне всерьёз ощутили себя русскими воинами, сражающимися ладно бы только за царя и за честь русского оружия, а в основном ради славы и карьеры, но ведь скорее уж за отечество. Забытое ещё со времён Петра I ощущение… (Между прочим, подобная ситуация нам видится и накануне Великой Отечественной войны: советское высшее руководство морально не было готово в данный момент воевать с Германией; оно успешно развивало многостороннее сотрудничество с этим союзником. А потом спешно стало по команде изымать из архивов героические образы предков, прежде всего, побивавших тевтонов…).
И вот чувство патриотизма, потом гражданственности, стало посещать после войны тех убелённых сединами ветеранов. Они испытывали возвращение былых чувств в период бунта родовитых заговорщиков против императора, когда сочувствовали декабристам, а потом их одолевал стыд за позорную Крымскую кампанию… И пускай их жизнь была в общем неизменной, иные прочие могли бы дерзнуть на гражданские поступки, если б выдалась судьба…
Между тем «эпоха великих реформ» – после 1855 года – требовала деятельности на общественной ниве, а такую деятельность можно было проявить только в литературе и в естественной науке, на поприще которых сказывалось влияние проевропейских настроений.
Нельзя, впрочем, сбрасывать со счетов и обыкновенные хозяйственные заботы, в помещичьем имении ничуть не менявшиеся десятилетиями. Как важно, скажем прямо, нечастое, участие барина в управлении хозяйством, вспоминает один из них: «Грустная и уединённая моя жизнь в деревне заставила меня обратить всё старание о поправлении обветшалого моего усадбища, в коем один только господский дом приведён был в довольно порядочное состояние, прочее же строение было крайне плохо. <…> Без хвастовства могу сказать, что я в течение пяти лет моего одиночества привёл Нежово в несравненно лучшее состояние, как в рассуждение самого усадбища, так и пашни. В 1792 году, когда я приехал в него, запашка состояла из сорока четвертей ржи, ныне же доведена до ста».
Ничуть не менялись и другие условия жизни помещика, состоявшего на государевой службе. На рубеже между старой и новой Россией новым было только оживление литературы в России да журналистики, ставших могучими факторами общественной жизни, следствием чего молодёжью, особенно разночинной, овладевает страстное возбуждение. Ею распространяется выдвинутое писателями и критиками понятие о гражданине, о его правах и обязанностях.
Но в высшем сословии ничего не меняется уже сто лет, и как прежде, например, при пушкинском Петруше Гринёве, дворянин живёт интересами своего семейства, службы, сословия: «Отец мой умер, лишившись более двух третей своего состояния, и оставил нам долги. На службе ни я, ни брат мой никогда ничего не приобрели, а напротив всегда тратили своё. Начальствуя полком, я не только не извлекал из него выгод, как другие, но расходовал собственное достояние <…>; когда же я оставил полк, тогда не было роты, которая не имела бы от 8 до 9 сот рублей артельных денег. Когда я сдал полк и должен был ехать в Италию для восстановления здоровья, у меня не было необходимых денег на поездку: я принужден был заложить мой петербургский дом и продать немногие драгоценные вещи, которые у меня были. Я имею долги, которых иначе уплатить не могу, как продавши какое-нибудь имение. Дохода я получаю от 20 до 22 тысяч рублей; но вы знаете, что это уже не рубли императрицы Елисаветы, и до какой степени всё у нас вздорожало. Поэтому, когда воспитание моего сына будет окончено и я привезу его для поступления на службу, я должен буду поселиться в деревне, дабы он (как и следует по справедливости) ни в чём не имел недостатка, тем более, что я обязан думать об уплате, из моего имения, приданого моей дочери. Могу заверить вас честью, что я не огорчён жалким положением, в которое приведено моё семейство. <…> Это произошло вследствие несчастий <…> ни мне, ни моим детям, ни потомству их не придётся краснеть, и лишь бы сын мой и дочь моя были благовоспитанны и честны <…>, это будет наилучшим наследством, какое я могу им оставить. Я видел очень богатых людей, всеми презираемых и неспособных на какую-либо государственную службу. Я надеюсь, что этого не будет с моим сыном…».
Читая эти и подобные им строки, нельзя не осознать, почему Россия не оказалась перед необходимостью преодоления чуждого наследия монголов, – потому что постоянно в своей истории пребывала в экстремале. Относительно спокойный XIX век дал возможность определиться в национальной самоидентификации, но противоречия западников и славянофилов не были преодолены полностью. Имперская Россия не осознала необходимости объединения в цивилизованной общности европейских народов, ей пока хватило собственного пространства бытия. Но это ведь не вечное состояние.
Маркизу де Кюстину такой порядок виделся неустранимым: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии; я нахожу союз этот тем более страшным, что продлиться он может ещё долго, ибо страсти, которые в иных странах губят людей, заставляя их слишком много болтать, – честолюбие и страх, здесь порождают молчание. Из насильственного молчания этого возникает невольное спокойствие, внешний порядок, более прочный и жуткий, чем любая анархия, ибо, повторяю, недуг, им вызванный, кажется вечным».
Разумеется, мало кто в России так считал, а многие видели и необходимость серьёзных изменений. И в самом деле, объективные условия для реформ тоже, вроде бы, были. Так отчего же так трудно и непоследовательно осуществлялись нововведения? Они бы всё равно состоялись, пускай медленно и искажённо. Что мешало?
Ох и многое! Кюстин зорко разглядел одну лишь сторону: «Реформа императора Николая затрагивает даже язык его окружения – царь требует, чтобы при дворе говорили по-русски. Большинство светских дам, особенно уроженки Петербурга, не знают родного языка; однако ж они выучивают несколько русских фраз и, дабы не ослушаться императора, произносят их, когда он проходит по тем залам дворца, где они в данный момент исполняют свою службу; одна из них всегда караулит, чтобы вовремя подать условный знак, предупреждая о появлении императора – беседы по-французски тут же смолкают, и дворец оглашается русскими фразами, призванными ублажить слух самодержца; государь гордится собой, видя, доколе простирается власть его реформ, а его непокорные проказницы-подданные хохочут, едва он выйдет за дверь… Не знаю, что больше поразило меня в зрелище сего громадного могущества – сила его или слабость!».
Ну, реформы Николая так и не осуществились, зато раздразнили социальные амбиции разночинцев, о которых было сказано: «Разночинец был новым человеком; это значит, что он не вынес из родной среды никаких воспоминаний, никаких традиций. Его психология была относительно свободна: она слагалась всецело под влиянием новых условий жизни, назревавших потребностей, нараставших интересов». А Георгий Федотов дополнил это представление своеобразной «испорченностью» разночинцев дворянским образованием: в гимназиях и университетах тот, мол, научился помещичьей лени – презрению к «чёрному» труду, и не выработал дисциплины мышления.
Только вот дворяне после Отечественной войны с Наполеоном были удивительными. Да и потом среди них встречались редкостные личности по уму и идеализму воззрений. Взять, скажем, 1817 год, когда крестьяне прибалтийских губерний были освобождены Александром Благословенным, хотя и без земли, от крепостной зависимости, то почти все помещики восприняли это как начало конца для дворянского сословия. И только члены Союза Благоденствия и сочувствующие им молодые дворяне убеждали всех в необходимости этой меры. А ведь все они были богаты, и случись отмена крепостной зависимости, потеряли бы много… Но однако же за свои благородные идеи не пожалели и жизни. Пускай им не хватило организованности и предприимчивости, а также знания психологии своих крестьян, заметный толчок развитию национального самосознания был дан.
Зато потом интеллигент-разночинец принёс обществу идею настоящих преобразований, что было прямым продолжением дела лучших аристократов. Император всё равно не смог бы осуществить в тогдашней России требуемых реформ, разве что жестокой силой, но дело-то подвинулось… А общественная жизнь страны была хилой, невнятной, зато её недостатки с лихвой восполнялись бойкостью и административной предприимчивостью чиновничества. Так бы всё и ходило по кругу социальной вариации сказки про белого бычка, да общество разбудила и вдохновила, как известно, русская литература.
Худо-бедно, увидев с её помощью все главные проблемы, правительство и общество вынуждены были заняться капитализацией и буржуазным строительством. Но подвижки двигались плохо и медленно.
На этом фоне национального возрождения западная идея коммунизма была воспринята последователями русских демократов XIX века как руководство к действию. Появились социалистические взгляды, которые нашли отзвук во всех сословиях, кроме дворянского. Ведь социализм понимался прежде всего как общество равных возможностей. Но ныне, в веке XXI, когда в Европе уже восторжествовала социал-демократия, главный социалистический принцип сместился в начало социальной перспективы. И теперь общество равных возможностей может быть состоятельным только при одном условии – если есть в нём равные стартовые позиции.
Но пока многие недостающие общественные институты замещались самой активной общественной силой, разночинцами – очень разнородным слоем общества, с огромным набором социально-политических, а порой просто бытовых, интересов. Объединяло их одно: социальная отверженность по рождению – в пользу дворянства. Дворяне в Российской империи были властью предержащей, других в верхах не имелось.
Самый революционизированный слой русского общества, который долго никак не мог освободиться от проклятия своего маргинального происхождения, к концу ХIХ века наконец получил возможность избавиться от этой социальной проблемы, но вызванные ею раздражительные настроения никуда бесследно не делись. Всё равно и неонародничество, и эсерство, и эсдекство продолжали подпитываться выходцами из разночинной среды.
Кроме того, в крестьянской стране само собой разумелся лозунг «Земля и воля». Но принадлежал он в России уже не официальной оппозиции правительству, а народникам – варианту западных революционеров, состоявших из разночинцев. При всей своей экзальтированности, если не сказать неоромантичности, народники и иные революционно настроенные разночинцы, старались действовать рационально. Только это получалось отнюдь не всегда: недоставало либо воображения, либо практичности. Им удалось даже убить императора Александра II, только что же дальше? А потом пошла череда терактов против высших чиновников – акции устрашения. Цели они добились: многие хорошие управленцы стали бояться занимать государственные посты. И дальше – России пала как государство, как империя, как самобытная культура.
Могла ли её миновать эта стезя? Безусловно, если б общество стало зрелым, более однородным и последовательным в осуществлении своих интересов – как в Европе. Но до этого даже в начале XX века было ещё далеко, ибо начинать совершенствоваться надо было десятилетиями ранее. Или идти своим путём, отличным от европейского, если он вообще мог существовать. Но тогда следовало объявить такую альтернативную программу российского прогресса.
Было тут, впрочем, ещё одно немаловажное обстоятельство, о котором знало почти всё тогдашнее общество: влияние западных настроений и идей, внедрявшихся злонамеренно и разрушительно. Главным и всегдашним врагом была Британия.
«Россия может миновать ту полосу мещанства, в которой невылазно завязла Европа», – так сформулировал Герцен основную идею народничества. Кстати говоря, Достоевский немало и саркастично писал о европейском мещанстве с его накопительством и расчётливостью в «Игроке», в «Подростке», в «Зимних заметках о летних впечатлениях», в «Опыте о буржуа». Но это ещё не социальная программа, а наблюдения и желания, которые были присущи наиболее чутким представителям русского общества. Только они не сказывались на самочувствии большинства, точнее, общество только ещё начинало становиться мещанским в 1870—1880-г годы. Общество, будь оно образованнее, обладай более развитыми социальными рефлексами, могло бы задаться проблемой мещанского, а скорее антимещанского, образа жизни, как этим задалось европейское в результате двух мировых войн.
Но в России пока почему-то в серьёзной ситуации побеждает технократическое мышление. Как мы его понимаем? Это по сути инженерный, технический подход к делу: если механизм не устраивает, придумывается новый, а прежний выбрасывается на свалку. Люди же при этом «оборачиваются» в другие «сущности». Только это не конструктивный подход к делу. В своё время маркиз де Кюстин обосновал подобное кардинальное решение в отношении России: «Я не устаю повторять: чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется всё уничтожить и пересоздать заново». Ну чем же не технократическое решение проблемы! И это ещё явная рекомендация большевикам: всего-навсего уничтожить народ и создать такой, какой тебе нравится.
Технократизм оправдан в ситуации кризиса и опасности, но в мирной и размеренной жизни он вредоносен. К сожалению, этой разницы российские управленцы зачастую не чувствуют.
Первым технократом был Пётр I, а отъявленными технократами – большевики. Но и император лишь продолжил удивительную традицию резкой «смены вех» в русском сообществе. Началась же она с покорения Древней Руси монголами, внезапно изменившими самоощущение русов. Мир для них перевернулся с ног на голову, «вехи» безмятежно-привычные сменились добродушно-жестокими.
У порождённых большевиками многих советских начальников был странный симбиоз невежества и убеждённости, что, занимая ответственный и ключевой пост руководителя, они в силу доступа к важной закрытой информации и знания марксистско-ленинского учения, понимают всё происходящее и происходившее. Однако, используя политические и социальные традиции Российской империи, они не учитывали главного: чтó есть Россия, почему она именно такая и какова её судьба. Это был и есть существенный вопрос. Разумеется при этом, что идея мировой революции ещё при Ленине – после серии неудачных попыток импорта вооружённых восстаний в Польше, Германии, Венгрии – отошла на задний план, но осталась в запасе.
Россию потом коммунисты восприняли с позиций царского правительства и самодержавия, что было исторически опрометчиво, и простительно лишь варварам. Так поступали преждевременно погибшие цивилизации, перенимая идеологию и мировоззрение покорённого народа. А ведь большевики поначалу назвались социал-демократами, а потом стали делаться государственниками, причём, именно наподобие старых монголов…
Платон ещё в IV веке до н.э. высказал мудрое убеждение, что революции случаются от крайнего недовольства внутри правящей верхушки. Народ ею только используется, и то, если он тоже, хотя бы смутно, разделяет аристократическое недовольство. И декабристский заговор стал не революцией, а банальным бунтом оттого, что народ считал порядок вещей самим собой разумеющимся, и поколебать его в этом убеждении, тем более обманом, было бессмысленно. Дворяне в правительстве потом зарубили это себе на носу, поэтому, когда вся Европа в феврале 1848 года, вслед за парижанами, поднялась против своих правительств и тронов под знамёнами либерализма и национализма, одна Россия и ещё Великобритания остались спокойны. Во-первых, в России не были распространены либеральные взгляды, как в Европе, а во-вторых, здесь не было европейского национализма. Да и царь выглядел хорошим: он неустанно боролся со злоупотреблениями, самодурством и глупостью дворян и чиновников.
Национализм же у нас, как и свободы, появился потом, к концу века.
Но до этого самые умные и порядочные дворяне и разночинцы пришли к выводу, что чаемые изменения в отечестве надо готовить исподволь, а кроме того, простых людей следует воспитывать и образовывать, прежде чем хотеть видеть их своими единомышленниками.
А вот самодержавие не собиралось благосклонно наблюдать за оживлением общества, блюдя стародавние традиции централизованной власти. Ему давно не нравились «французские идеи», то есть, идеи Просвещения, а тут не стали нравиться политически опасные националистические настроения. Например, в 1849 году были арестованы члены кружка Петрашевского, изучающие «фурьеризм» и утопический коммунизм «фаланстера» по Шарлю Фурье, а также идеи французских социальных реформаторов. В 1852 году в ссылку отправлен западник и либерал И.С.Тургенев, показавший в очерках, вошедших в первый вариант сборника «Записки охотника», высокие душевные качества крепостных крестьян. К тому же претерпел неприятности А.Н.Островский, принадлежавший к «молодой редакции» «Москвитянина», которая воевала с западниками во имя «истинно русского», то есть, патриархального склада жизни. В 1850 году было запрещено ставить на сцене комедию драматурга «Свои люди, сочтёмся» и писать о ней рецензии, а сам автор был отдан под надзор полиции. А потом ещё государь повелел дворянству появляться в обществе без бород (Иванов-Разумник вспоминает знаменитый в своё время циркуляр Министерства внутренних дел предводителям дворянства от 1849 года о том, что «Государю неугодно, чтоб русские дворяне носили бороды… Государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по выборам»… Замедлившие исполнить предписание Аксаковы получили его вторично через полицию, после чего сбрили бороды, хотя и не служили по выборам)…
Так что цензура стала почти одинаково жёстка и к западникам, и к славянофилам. Кстати, эта внутренняя политика в полной мере и в значительно усиленном варианте вернулась потом в советский период. И в 1920—1930-е годы особенно жестоко преследовался русский национализм, наряду, конечно, с другими.