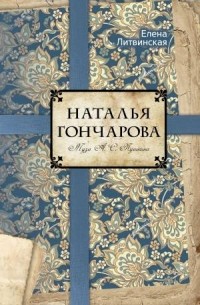Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Родители Наташи
Наталья Ивановна полюбила Ярополец, где прошло ее детство и где она потеряла мать. Имение досталось ей по наследству, так как Александра Степановна узаконила ее происхождение, позаботилась о ее наследственных правах и относилась к ней так же, как к своим родным детям, не делая между ними никакой разницы. До наших дней сохранился каменный дом, построенный в конце XVIII века архитектором Иваном Васильевичем Еготовым, учеником знаменитых Баженова и Казакова. Дом примечателен не только своей архитектурой, но и тем, что здесь бывал Пушкин.
«В Ярополиц приехал я в середу поздно, – писал Александр Сергеевич жене в 1833 году. – Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я нашел ее здоровою, хотя подле нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Много говорили о тебе, о Машке и о Катерине Ивановне. Мать, кажется, тебя к ней ревнует; но хотя она по своей привычке и жаловалась на прошедшее, однако с меньшей уже горечью. Ей очень хотелось бы, чтобы ты будущее лето провела у нее. Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на поклонение… Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополиц был вовсе не напрасен…»
Когда дочери подросли, Александра Степановна переселилась с ними в Петербург, где они пользовались поддержкой и покровительством Натальи Кирилловны Загряжской, урожденной графини Разумовской, жены Николая Александровича Загряжского, брата Ивана Александровича. «Кавалерственная дама ордена Св. Екатерины, еще со времен Павла I она пользовалась большим весом и значением в придворных и светских кругах Петербурга благодаря своему уму, сильному характеру и живости своего нрава, отзывчивого на все явления жизни» – так отзывались о ней современники.
В повзрослевшую Наталью Ивановну, ставшую, как и ее сестры, фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны, без памяти влюбился Алексей Охотников, фаворит императрицы Елизаветы Алексеевны, от которого та родила дочь, не прожившую и трех лет. Чувства, которыми воспылал Охотников к Наталье Ивановне, не могли пройти безнаказанными: в октябре 1806 года неизвестный, подосланный якобы великим князем Константином Павловичем, ранил Охотникова, когда тот выходил из театра, и в январе 1807 года он скончался.
Наталью Ивановну, видимо чтобы замять историю (непонятно, правда, какую она сыграла в ней роль), спешно выдали замуж за влюбленного в нее Николая Афанасьевича Гончарова, который был для нее хорошей партией. На венчании, состоявшемся 27 января 1807 года в дворцовой церкви, присутствовали император Александр I и вся его семья. Перед венчанием Наталью Ивановну препроводили «во внутренние покои к Государыне Императрице Марии Федоровне, где от Ея Величества и убираема была бриллиантовыми к венцу наколками», как свидетельствует запись в камер-фурьерском журнале. Наталья Ивановна пошла под венец с Николаем Афанасьевичем по большой любви, и первые годы совместной жизни это взаимное счастье ничем не омрачалось.
Н. К. Загряжская. Акварель П. Ф. Соколова, 1821
Николай Афанасьевич, единственный сын Афанасия Николаевича Гончарова и Надежды Платоновны Мусиной-Пушкиной, был очень талантлив – и творчески, и человечески. Он был хорошо образован, писал стихи, играл на скрипке и виолончели, знал в совершенстве три языка: французский, немецкий и английский и, в отличие от других Гончаровых, прекрасно владел своим родным русским языком, на котором часто писал письма старшему сыну Дмитрию. Сын соседских помещиков Аполлинарий Петрович Бутенев, воспитывавшийся вместе с Николаем Афанасьевичем, в своих воспоминаниях писал о нем, что тот «был в детстве любезен и ласков, в юности имел красивую наружность, живой и любезный нрав, был добрый и любезный товарищ». Проявил он и явные способности к предпринимательству – пока Афанасий Николаевич жуировал в Европе, сыну удалось поправить дела в почти разоренном отцом имении. Но отцу не понравилось, что сын взял дела в свои руки и добился успеха на этом поприще. Вернувшись из-за границы с очередной любовницей, мадам Бабетт, которую домашние называли не иначе как «парижской прачкой», и, видимо, приревновав Николая Афанасьевича к коммерческому успеху, Афанасий Николаевич ничего лучше не придумал, как отстранить сына от дел и продолжать разорять семью. Николай Афанасьевич не перенес этого удара и запил. Его алкогольную болезнь усугубила травма головы, полученная им при падении с лошади. После этого молодые Гончаровы с детьми вынуждены были перебраться из Полотняного Завода в Москву, в собственный дом Гончаровых на Большой Никитской (до наших дней дом с участком, занимавший почти целый квартал между Большой и Малой Никитскими вдоль Скарятинского переулка, не сохранился). Каким же страданием веет от писем Николая Афанасьевича к отцу, которые он подписывал словами «уничтоженная тварь»! Достоинство его было сломлено отцом, а ведь сколько в нем таилось надежд на счастливую, обеспеченную жизнь с любимой и любящей женой…
Н. И. Загряжская. Миниатюра начала XIX века
Н. А. Гончаров. 1810-е годы
Тихий и скромный в обычной жизни, в подпитии Николай Афанасьевич становился буйным и страдал припадками бешенства. Дети его боялись, и Наталье Ивановне пришлось поселить мужа вместе с его слугой в отдельном флигеле. Каждый день она навещала Николая Афанасьевича и следила за тем, чтобы ему не давали денег в руки – боялась, чтобы тот не послал слугу за вином. Однажды маленькая Натали, задержавшаяся за обедом, перепугалась до полусмерти – отец схватил нож и погнался за ней; дочь еле успела закрыться в комнате и там потеряла сознание. С тех пор сильные потрясения вызывали у нее глубокие обмороки. Но когда Николай Афанасьевич был трезвым, он заглядывал в детскую и улыбался на проказы своей любимицы Таши, которую выделял среди других детей, до конца своих дней вдохновенно играл на скрипке, называл жену «друг мой, Ташок»…