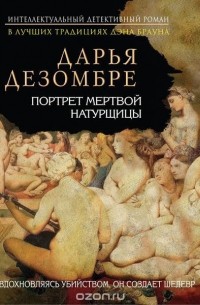Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Он
Шум моря. Вот что он помнил из своего детства. Не тот, который сопровождает купание с ватагой сверстников где-нибудь в Крыму, или звучит, когда дрожащими от холода пальцами (Прикройся от ветра! Ну сколько можно тебя звать из воды? Заболеть хочешь?!) прямо на пляже чистишь яйцо вкрутую, или откусываешь – сладострастно – от южной роскошной помидорины, высасывая сок и жмуря глаза от счастья и от солнца.
Нет, неумолимая, как «Болеро» Равеля, ЭТА волна набухала где-то в глубине мозга, росла, заслоняя собой все остальные звуки, и разбивалась с грохотом, там, где белел чистый крутой детский лоб. А мысль, соприкоснувшись с реальным миром, пряталась за этот мощный древний рокот.
В реальном же мире мачеха трясла перед ним своим платьем: натуральный крепдешин, белое в золотых цветах, широкая юбка, узкий корсаж.
– Ах ты, дрянь! Леня, ты только посмотри, что наделал твой сын! Все мои платья…
Такие никогда не выходят из моды – так сказала однажды ее портниха, он подслушивал за дверью. Мачеха стояла на стуле, а портниха на коленях подкалывала булавками подол. Как раз-таки это, вечномодное, платье он разрезал на длинные красивые ленты. Если повесить его на балконе и подождать ветра, может получиться совершенно прекрасная картина: золото на голубом.
Еще он разрезал красное, короткое. И серое. И зеленое. Зеленое она особенно любила: идеально подходило к ее глазам. А выкройка скопирована из какого-то французского журнала, его отец привез из заграницы, куда ездил на очередную конференцию. У мачехи была нестандартная фигура – так она ее называла.
А домработница, дородная Тома, однажды фыркнула:
– Ни жопы, ни сисек, на что только академик запал?
– Ни жопы, ни сисек, – повторял он. Фраза была для него абстрактной, но от нее веяло такой неприязнью, что он мгновенно проникся симпатией к Томе и твердил это, как мантру, еще месяц.
На самом же деле Томка просто завидовала. У молодой жены академика было много чего, на что мог запасть мужчина: тяжелые волосы цвета старого золота и широко распахнутые в восторженном удивлении (а уж восторг ей в последнее время муж обеспечивал с лихвой) серо-зеленые глаза. Когда мачеха смеялась, она обнажала белые ровные зубы и бралась тонкой кистью с бледно-розовым маникюром за горло, будто пытаясь задержать смех там, где он рождался – в самой глубине. А когда слушала собеседника, преимущественно мужеского полу, рука ее прижималась к нежной коже на декольте, и это нежное на нежном было очень красиво. Но мальчик не завидовал, как Томка. Он просто ненавидел. Сильно и без рефлексий. Как могут только дети.
А мачеха продолжала говорить… Но звук, визгливый, некрасивый, от которого перекашивалось тонкое лицо, пропал, заслоненный волной, ее силой, рокотом и громовым раскатом: тонны воды разбивались о пустынный берег его одинокого детства. Мачеха отшатнулась: ему показалось, что до нее долетели соленые брызги. И тут рядом появился отец: седой, в шелковом халате с кистями. И покосился – не на сына, а чуть мимо. Проследив за его взглядом, мальчик увидел длинные ножницы, выставленные вперед. Он снова поднял глаза на отца: тот смотрел на него со смущенным раздражением. И вот этого-то взгляда, в котором не было ни нежности, ни сострадания, ребенок не выдержал: он забился еще глубже в угол и расплакался.
Потому что он отца – любил. Сильно и без рефлексий. Как могут только дети.