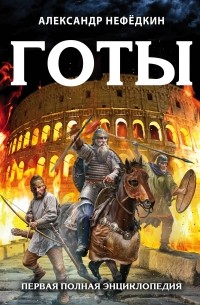Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
II. Военная организация
Весьма разрозненные сведения сохранились о военной организации готов и о ее развитии. Зачастую какое-то явление известно нам только в определенный период в связи с каким-то эпизодом, но как оно появилось, эволюционировало и исчезло, не ясно. В общем, развитие военной организации готов отчетливо делится на племенную и государственную. Первая во многом совпадает с социальной структурой этноса, а вторая имеет отличия в большей или меньшей степени романизации, ведь ничто так не зависит от социального строя, как военная организация: комплектование, наличие различных родов войск, командование ими и т. д.
В догосударственном обществе социальная структура обычно совпадает с военной. Это касается системы командования. Если у восточных готов-гревтунгов король был командующим, то у западных готов-тервингов не было королевской власти, но носителем властных функций был избираемый судья, имевший ограниченные полномочия. Он мог командовать войском в том случае, если война велась всем народом на своей территории. При полководце во время похода действовал военный совет из старых опытных ветеранов, которые не стеснялись высказывать свое мнение (Claud., XXVI (De bel. Goth.), 479—556). Ниже по социальному статусу стояли главы отдельных племен kuni, а деревни возглавлялись особым поселковым советом. Хозяин дома выходил на войну вместе со своими домочадцами и зависимыми, составляя тем самым элементарную единицу ополчения. В IV в. вождей по древней германской традиции сопровождала свита, неотъемлемой частью которой были дружинники. Так, готский предводитель Сар в начале V в. командовал отрядом в 200—300 воинов (Sozom., IX, 9, 3; Olymp. frg., 3 = Phot. Bibl., 80, 51a). Такая дружина не была однородной внутри. В. Н. Дряхлов доказывает, что уже во второй половине IV в. у германцев вообще и у готов в частности внутри дружина делилась на немногочисленных телохранителей вождя, старших дружинников, обычных бойцов и эпизодически привлекаемых на войну рабов (ср.: Amm., XXXI, 5, 5—7).
У готов существовало традиционное для индоевропейцев десятичное деление внутри одного отряда, как пешего, так и конного. Нам, в частности, известно, что у визиготов в Испании войско делилось на подразделения по 1000, 500, 100 и 10 воинов, каждое из которых возглавлялось своим отдельным командиром (LV, IX, 2,1—5). Данную десятичную структуру следует считать традиционной германской, существовавшей независимо от позднеримского влияния, а тем более сарматского или гуннского. Немецкие историки, правда, полагают, что организация в тысячи не являлась исконно германской, а была заимствована от римлян, когда готы были на службе империи. Иногда считается, что десятичное деление визиготской армии пришло на смену традиционному племенному, однако в действительности одна другую не исключает: децимальная система являлась традиционной и для племенного общества.
Первобытный принцип народа-войска был общегерманским, характерным и для готов: все взрослые мужчины с 15—16 лет до старости и/или потери боеспособности были бойцами. По каким принципам собиралось ополчение, если оно не было всеобщим, не известно. Однако мы располагаем сведениями, что, отправляясь в грабительский набег, не санкционированный руководством племени, сам предводитель набирал отряд. Так, в 470 г. будущий король Теодорих, видимо даже без воли отца, выступил против сарматов на левом берегу Дуная, собрав шеститысячный отряд из спутников отца, клиентов и просто добровольцев (Jord. Get., 282). Следовательно, если набег организовывался неким предводителем, то основу отряда составляли его дружинники и зависимые соплеменники, к которым присоединялись просто любители приключений и легкой наживы. В данном случае присутствие ветеранов, соратников отца, должно было поднять престиж мероприятия и показать серьезность последнего. Позднее, в 478 г., уже будучи королем, Теодорих собрал в поход против столицы империи 12 000 готов и воинов из других народностей (Fredeg., II, 57).
Золотой юбилейный медальон Теодориха Великого, отчеканенный в Риме около 507 г. На аверсе показан сам король в имперском панцире и плаще, держащий державу с Викторией; надпись гласит: Rex Theodericus Pius princis (= princeps invictus semper или princeps invictus/ invinctissimus). На реверсе показана опять же Виктория и надпись: Rex Theodericus Victor gentium. Медальон был переделан в фибулу. Воспроизведено по: Göbl R. Antike Numismatik. Bd. II. München, 1978: 226–227. Taf. 126. 2679.
Участвовал ли слабый пол в боевых действиях? Казалось бы, вопрос праздный. Но в племенном обществе женщины не были рабынями гинекея, а у германцев они традиционно играли важную роль в жизни социума (Tac. Germ., 7—8). Готские женщины также обладали высоким социальным статусом: вспомним, например, как они бранили своих мужей, сдающихся византийцам в 540 г. (Procop. Bel. Goth., II, 29, 34), а до этого фактически руководила Италией Амаласунта, регенша при своем малолетнем сыне Аталарихе (526—534 гг.). В «Песне о Хлёде» (с. 390, §16) вообще правительница пограничной области Хервёр сражается с гуннами во главе своих войск. Если говорить об армии, то, естественно, женщины вместе с семьями сопровождали готов во время переселений и находились в вагенбурге, исполняя свои повседневные обязанности.
В описании грандиозного триумфа императора Аврелиана в 274 г. рассказывается: «Вели и десять женщин, которых пленили сражавшимися среди готов в мужской одежде, тогда как большинство из них было убито; надпись свидетельствовала, что они были из рода амазонок» (SHA, XXVI, 34,1). Действительно, согласно историку VI в. Иордану, амазонки причислялись к предкам гетов-готов (Jord. Get., 44—58; ср.: Roder. Hist. Hisp., I,12), так что для самого готского историка не было ничего странного в наличии женщин-воительниц. Со своей стороны, римляне также хорошо знали легенды об амазонках и верили в них, поэтому для жителей империи опять же не было ничего странного в наличии женского племени, тем более среди северных варваров, женщины которых по своей природе воинственны. Более того, автор «Хроники Фредегара» в середине VII в. полагал, что лишь сто лет назад полководец Велизарий был женат ни много ни мало как на амазонке (Fredeg., II, 62). Однако следует обратить внимание на мужскую одежду воительниц, то есть они в общем-то скрывали свою женскую природу и сражались среди готских мужчин. Причем они, скорее всего, выходили именно на поле боя, а не участвовали в обороне обоза, где женщины находились с семьями, от нападающих врагов. Иначе зачем надевать одежду противоположного пола? Да и времени для переодевания обычно не бывает, когда враг атаковал лагерь. Х. Вольфрам на основании данного источника даже считает, что у готов существовало некое подразделение, состоящее из женщин, большинство из которых погибли. Однако из процитированного пассажа – единственного свидетельства о данном явлении – нельзя сделать такой вывод, ведь если некоторые представительницы слабого пола в критических обстоятельствах и сражались вместе с мужчинами своего рода, то вряд ли они составляли отдельное подразделение – это было не в германских и даже не в сарматских традициях. Имя же «амазонок» победители им дали просто по аналогии с женщинами-воительницами, которые по представлению древних жили в Причерноморье, хотя биограф не забыл указать, что сражались они все же среди готов.
Подобное участие женщин в сражениях известно в военной истории, и в них нет ничего уникального. Чаще это происходило в критических для социума обстоятельствах, которыми можно посчитать окончательный разгром готов Аврелианом в 271 г. Намного позднее, в 713 г., «князь» Теодимер, потерпев поражение в полевом бою, вынужден был отойти в Ориуэлу, для защиты которой у него было недостаточно боеспособных мужчин. Поэтому для создания у мусульман впечатления о многочисленности гарнизона он поставил на стены города несколько позади воинов женщин, вооруженных копьями. Стратегема сработала, и враги приняли стоящих на парапете стены за многочисленных бойцов и заключили с Теодимером приемлемое для испанцев соглашение о подчинении области (Ajbar Machmuâ, p. 26; el-Athir, p. 45; Al-Bayano’l-Mogrib, p. 17; al-Makkarí, p. 281).
Положение готского социума изменилось с образованием государств в Италии, Галлии и Испании. Теперь племенная структура наложилась на государственную, создав определенный симбиоз. Племенной предводитель теперь стал еще и правителем своих новых подданных-«римлян», которые рассматривали нового короля как наследника императорской власти. Готы стали привилегированной нацией, обязанной служить в армии. В первой четверти V в. визиготы, оказавшись в среде католического римского населения Галлии, пытались сохранить свою этническую идентичность: в первую очередь религию-арианство, язык, обычаи и т. д., что нашло свое отражение в кодексе короля Эвриха (466—484 гг.), проводившего политику этнической сегрегации и запретившего даже смешанные с римлянами браки. С другой стороны, в Италии готское руководство до войны с Юстинианом придерживалось, в общем, политики паритета между обоими народами и межнациональные браки не были редкостью. Поскольку войско состояло из готов, то и военным языком был готский, именно на нем отдавали приказания (Procop. Bel. Goth., I,10,10). Однако письменные приказы в Италии писались на латыни, о чем красноречиво свидетельствуют Variae Кассиодора, и они должны были пониматься остроготами. В Испании же готский язык существует дольше, но, как считается, выходит из употребления к началу VII в., когда визиготское этническое меньшинство ассимилируется с испаноримлянами. Очевидно, к этому времени и языком армии стал латинский.
Предводитель остроготов Теодорих направился в Италию против Одоакра в качестве римского полководца (magister militum) и патрикия (Fredeg., II, 57). Затем, в 497/8 г., он принял от императора Анастасия королевскую одежду и украшения дворца, которые Одоакр ранее отослал в Константинополь (Anon. Vales., 64: praesumtione regni et omnia ornamenta palatis), получив тем самым легитимное признание своей власти над Италией со стороны византийского двора. Хотя Теодорих не принял императорского титула и официально именовался Flavius Theodoricus rex, но он представлял свое государство как продолжение Римской империи, а себя выставлял в качестве римского принцепса (Anon. Vales., 60). Покорив Италию, Теодорих сохранил столь необходимый в управлении римский бюрократический аппарат, но поставил его под свой контроль. На военные должности теперь назначались готы, которые стали носить имперские титулы illustres, spectabiles, clarissimi и другие. Новый правитель Италии располагал на германский манер свитой из придворных-maiores domus regiae и рассылал из нее с различными военными и гражданскими поручениями готских комиссаров-сайонов. Провинциями руководили готы-комиты (comes Gothorum provinciae), которые наряду с римской администрацией выполняли гражданские, а также военные функции. При комитах состояли доместики (domestici), которые выполняли различные поручения губернаторов и составляли его стражу (Cassiod. Var., V, 14, 8; IX, 13), а также воины (milites). Во главе же Реции стоял дукс, который командовал варварскими подразделениями, бывшими сначала римскими, а затем готскими федератами (ругии, аламанны, баварцы, бреоны и др.). Обычно дуксы же были полевыми военачальниками. В целом же местная администрация подчас функционировала параллельно: римская и готская.
Король был верховным главнокомандующим. Его при провозглашении поднимали на щите, обнажая мечи (Cassiod. Var., X, 31, 1—2). Данный обычай Л. Шмидт рассматривает как чисто германский. Другим германским обычаем был способ одобрения воинами избрания короля путем потрясания и бряцанием оружия (Jord. Get., 215; ср.: Tac. Germ., 11, 6). Население, как римское, так и готское, приносило присягу на верность монарху по его восшествии на престол (Cassiod. Var., VIII, 2; 5). Теодорих, завоевав Италию, перестал сам лично возглавлять военные экспедиции, а стал направлять во главе них своих дуксов, обычно готов. При последних остроготских королях акцент опять стал делаться на национальный этос, в противовес римскому, и они обычно сами возглавляли войско в бою, хотя остроготский король, как настоящий полководец, а не племенной вождь, мог сам не вмешиваться в битву, фактически оставляя тем самым армию без управления, но руководил войсками из тыла (Procop. Bel. Goth., I, 29, 16).
Вероятно, при дворе Теодориха существовало некое подобие «пажеского корпуса». Фредегар однажды упоминает, что из дворца был послан puer с определенным поручением (Fredeg., II, 57). Кассиодор рассказывает (527 г.), что сыновья знатного римлянина патриция Киприана обучались вместе с готами во дворце военным упражнениям и даже умели говорить по-готски, чтобы общаться со своими сверстниками и, видимо, слушать учителей (Cassiod. Var., VIII, 21, 6—7). Этот институт был достаточно древним и, с одной стороны, мог возникнуть из простой системы заложничества, когда знать должна была посылать своих детей в свиту правителя, а с другой – из свиты древнегерманского вождя, в которой юноши проходили и определенное обучение. При Теодорихе формальным поводом для посылки детей ко двору служило обучение, но фактически это был тот же вариант заложничества, позволявший воспитать будущих руководителей в духе верности монарху и его преемнику. В общем же готская знать в своей массе не была склонна давать детям классическое образование: готские старейшины выразили решительный протест против намерений обучить юного короля Аталариха грамматике, понимая, что это сделает его невоинственным, в противоположность тому, каким должен быть их предводитель, обязанный вести их в бой (Procop. Bel. Goth., I, 2, 6—17). Молодежь готов обучалась в первую очередь военному делу, которое они получали в гимназии, где их, в частности, учили стрелять из лука, а потом юноши проходили практику в чистом поле (Cassiod. Var., V, 23). Для молодежи устраивались показательные выступления по метанию копий в присутствии короля (Ennod. Paneg., 19, 83—84), где они могли показать свое умение.
Бронзовые монеты остроготского короля Аталариха (526—534 гг.) достоинством 10 нуммов, отчеканенная в Риме. Аверс: бюст Ромы в шлеме, реверс: Аталарих в шлеме, кирасе и плаще, держащий копье и овальный щит.
Воспроизведено по: Wroth 1911: 69. Pl. VIII,21—22.
Нам известна судьба одного из бывших пажей, знатного гота Тулуина. Сначала он состоял при службе в покоях короля (ad sacri cubiculi), затем, в 505 г., участвовал в экспедиции на Сирмий под руководством комита Питцама, после чего стал военным советником в королевском совете, посылался в две военные экспедиции, в последнюю, в 523 г., как командующий, после чего за службу получил земельные пожалования в новозавоеванных областях и был представлен королем Аталарихом в конце 526 г. к званию патриция (Cassiod. Var., VIII, 10). В целом, пройдя обучение при дворе и войдя в доверие правителю, знатный гот вполне мог стать оруженосцем-armiger – гвардейцем короля, как это было с будущими королями Тевдисом – «оруженосцем» Теодориха и Витигисом – «оруженосцем» Теодохада (Jord. Get., 302; 309). Возможно, справедлива идентификация данной должности с мечниками-спатариями (spatharii), служившими при дворе Теодориха Великого, как раз которым, по Кассиодру, и был Витигис (Cassiod. Orat., p. 476, l. 10). Прокопий, похоже, именует этих телохранителей короля согласно греческой традиции копьеносцами-δορατοφόροι, тогда как епископ Павии Эннодий – по римской традиции – оруженосцами-armigeri (Procop. Bel. Goth., III,1,43; Ennod. Carm., II,17). Спатариями были особо доверенные люди, которым король поручал важные и наиболее сложные задания. Так, известно, что «мечник» Унигис должен был навести порядок в Южной Галлии в 508 г. (Cassiod. Var., III, 43). Звание спатария было почетной должностью при дворе в Равенне, о чем упоминает Кассиодор (Cassiod. Orat., p. 476, l. 11), но и, видимо, одной из обязанностей ее носителя была все же реальная охрана монарха (ср.: Procop. Bel. Goth., III, 1, 47). Можно отметить, что на рельефных пластинках из слоновой кости, изображающих сцены из жизни библейского Иосифа, которые являются обкладками кафедры епископа Максимиана (546—556 гг.) в архиепископском дворце в Равенне, за правителем стоят стражи с варварской прической и в штанах, считающихся готскими; они вооружены длинным мечом, а не копьем, которое носят другие воины, что номинально напоминает должность спатария. Хотя происхождение данной придворной должности подчас связывается с германской военной традицией, но само название заставляет предполагать позднеримско-византийское влияние. Спатарии существовали при дворе вплоть до конца существования королевства: папа Григорий Великий в «Диалогах» дважды упоминает спатариев Тотилы, состоявших во время экспедиции в его свите (comitatus). При этом примечательно, если комиты стояли справа и слева от короля, то спатарии и остальные члены кортежа находились позади (Greg. Dial., II, 14,1; III, 6, 2), что ясно указывает на их более низкий статус.
Из римской военной системы в Италии сохранились дворцовые части силенциариев, схолариев и доместиков, которые получали жалованье от государства и служба которых стала наследственной (Procop. Hist. arc., 26, 27—28). Первые во время империи, в V в., насчитывали три отряда по десять человек в каждом, носили сенаторское звание и являлись охраной личных покоев императора, вторые составляли стражу дворца, а третьи были выше рангом – штаб-офицерами, которые служили как в пешем, так и конном строю, что специально отмечается в одном из писем Теодориха (Cassiod. Var., I, 10, 2). Данные подразделения квартировались в Риме, тогда как столица готского государства находилась в Равенне, поэтому они, очевидно, являлись не реальной боевой силой, а просто парадной стражей («одно только название войска», по словам Прокопия), которая напоминала гражданам Вечного города о продолжении существования римского государства. Действительно, определенное время даже должность командира доместиков (comitiva domesticorum) была вакантной, а затем ее на какое-то время, в период между 507 и 511 гг., занял Либерий, – в общем, гражданский чиновник (Cassiod. Var., II, 16, 2), что было бы сложнее сделать, если бы пост командира был реальным боевым. Эти отряды были распущены за ненадобностью уже после завоевания Италии византийцами (Procop. Hist. arc., 26, 30).
В формуле для магистра оффиций Кассиодор упоминает, что в шествиях магистр идет впереди «преторианских когорт и милиции городской префектуры» (Cassiod. Var., VI,6,7: praetorianes cohortes et urbanae praefecturae milites). С одной стороны, данную формулу можно посчитать чисто теоретической, описывавшей ситуацию, существовавшую в Римской империи, но с другой – она предназначалась для современного Кассиодору использования и, таким образом, должна была описывать обычаи, существовавшие в готское время. Если milites городской префектуры еще можно рассматривать как чиновников, то сложно согласиться с предположением, что и praetorianes cohorts означают неких чиновников. Если действие происходило в Риме, то это вполне могли быть воины схол, которые упомянуты в этой же формуле (Cassiod. Var., VI, 6,1), а если в Равенне, то готская гвардия Теодориха. Поскольку речь в документе идет об особенностях службы при дворе, то, похоже, подразумевается столица Равенна. По крайней мере наряду с телохранителями из спатариев Теодорих, скорее всего, располагал и обычной лейб-гвардией. Ведь еще на Балканах его повсюду сопровождала стража (custodia), например в персональной разведке (Fredeg., II, 57).
В одной купчей из Равенны, датированной 539 г., в качестве владельца имения около Фавенции упоминается гот Виттерит-скутарий (scutarius Witterit), носящий титул vir devotus. Этого скутария Л. Шмидт относит именно к схолариям. Однако в таком случае получается, что среди почетной италийской стражи дворца в Риме были германцы. Возможно, впрочем, скутарии были готским подразделением, выполнявшим определенные функции в равеннском гарнизоне или даже дворце.
В войске должны были служить в первую очередь готы (Cassiod. Var., XII, 5, 3—4). Гот, находясь в боеспособном возрасте, получал ежегодное денежное жалованье (donativum), однако, как только воин уходил в отставку, выплата донативов прекращалась (Cassiod. Var., V, 36). Сколько получал рядовой – неизвестно, но для сравнения можно указать, что моряку при создании флота в 525/6 г. Теодорих постановил платить пять солидов (Cassiod. Var., V, 16, 4—5), которые Ф. Дан рассматривает как аналог солдатского жалованья. В ходе кампании воин получал еще и продовольственное содержание (annona), что теоретически должно было избавить страну от мародерства (Cassiod. Var., IX, 25, 9). Нам известно, в частности, что раздаче подлежали вино, пшеница и мясо (Cassiod. Var., XII, 26, 2), – вероятно, основные компоненты готской диеты в кампании. Кассиодор, кроме того, сообщает, что доместики готских комитов при Теодорихе получали большое годовое содержание в размере 10 аннон и 200 солидов, к которым по указу Аталариха в 527 г. было прибавлено еще 50 солидов (Cassiod. Var., IX, 13).
Срок службы, очевидно, определялся боеспособностью каждого воина и соответственно ограничивался его совершеннолетием, с одной стороны, и неспособностью служить – с другой. По крайней мере наиболее именитых воинов сам король отправлял в отставку. Так, между 523 и 526 гг. гот Старцедий, носивший титул vir sublimis, направил заявление на имя короля с просьбой освободить его от службы по старости. Прошение было удовлетворено (Cassiod. Var., V,36). Другой ветеран, направивший жалобу на имя короля в эти же годы, был слепым (Cassiod. Var., V, 29). Можно предположить, что и сама отставка произошла из-за ослабления или потери зрения.
С целью поддержания боеспособности воинов периодически собирали на смотры в присутствии короля, в частности известны сборы в начале июня, когда бойцы получали по образцу федератов старой римской армии ежегодные донативы (Cassiod. Var., V,26—27; Procop. Bel. Goth., I,12,48; Isid. Hist. Goth., 35); это происходило в одном из трех центров пребывания короля: в Равенне, Вероне или Павии, которые соответственно были ближе расположены к основным областям расселения готов в Пицене и Самнии; Венетии; Лигурии. Данное мероприятие, восходящее корнями к древнегерманскому собранию воинов, прямо указывает на существование особых регистрационных списков боеспособного населения, как это было и у визиготов. Причем, видимо, месяц получения донативов был выбран не случайно: именно в июне армия Теодориха обычно отправлялась в поход (Cassiod. Var., I,24; V,17,4; 18,2; 19), к чему были приурочены смотр и выдача жалованья. Вероятно, этим и объясняется то, что не все готы прибывали ко двору за донативами (Cassiod. Var., V, 27), а только те, кто потом отправлялся в поход. По сравнению с началом военных действий, например у римлян, июнь выглядит достаточно поздней датой открытия кампании. Была ли это какая-то особая традиция, или Теодорих просто рассчитывал быстро, в «сезон», завершить очередную кампанию, или это было вызвано тщательной подготовкой экспедиции – не ясно.
Из структуры военной организации остроготов нам известно лишь, что готов, поселенных в Пицене и Самнии, возглавляли тысячники-millenarii, которые прибывали ко двору в Равенне и получали жалованье за тех, кто сам не явился туда (Cassiod. Var., V,27). По мнению У. Гоффарта, эти «тысячники» не были реальными военными командирами, а лишь получателями военного «жалованья» с определенного земельного участка millena, с чем опять же согласны далеко не все исследователи. Однако вполне возможно, что они возглавляли свои подразделения на королевском смотре, который должен был происходить, судя по указу, 6 июня между 523 и 526 гг., и вместе с тем тысяцкие же получали донативы за тех из готов, кто не представал пред глазами монарха. Заметим, что тысячники напрямую подчинены королю, а не местным комитам, что говорит о значимости этой должности в государственной системе. Хотя остальная структура остроготских военных подразделений нам неизвестна, однако, вероятно, именно тысячи, как у визиготов и вандалов, были базовой военной единицей.
У знатных остроготов были свои свиты-отряды. Вспомним, что в 500 г. Теодорих послал свою сестру Амалафриду в жены вандальскому королю в сопровождении тысячи знатных готов, у которых было еще 5000 бойцов (Procop. Bel. Vand., I, 8,12; Theophan., p. 187, ll. 11—15). Следовательно, в среднем получается, что у одного знатного гота было по пять дружинников, которые, видимо, представляли ближнюю свиту.
Прокопий рассказывает, что, придя в Италию и разгромив армию Одоакра, Теодорих отдал готам для поселения треть земель, принадлежавших до этого перебитым воинам Одоакра (Procop. Bel. Goth., I,1, 4—8; 28). Подобное распределение земель связывается с позднеримской «системой госпиталитета» (hospitalitas), представлявшей собой правила, согласно которым солдаты, находившиеся не в лагерной стоянке, получали постой у населения (398 г.). Обычно так расквартировывались вновь прибывшие на территорию империи варвары-федераты. Канадский историк У. Гоффарт предложил пересмотреть традиционную точку зрения. Он, в частности, отметил неясность древних документов о процессе данного наделения и, исходя из предположения о том, что вряд ли новый монарх стал бы разорять своих подданных, лишая государство таким образом налоговых поступлений, доказывал, что готы просто встали на постой, получая от римлян треть земельного налога. Данное предположение, наглядно представляющее действие системы госпиталитета, было поддержано и другими исследователями, однако не всеми. С. Барниш и В. Либешуц, в частности, показали на лучше известном нам италийском материале, что современные событиям источники – Прокопий (Procop. Bel. Goth., I,1, 28), Кассиодор (Var., II,16, 5) и Эннодий (Epist., IX,23) прямо говорят о наделении готов земельными участками, а не столь значительное количество вновь прибывших, по В. Либешуцу, 25 000—30 000 человек, не привело к социальным конфликтам при наличии пустующих и государственных земель. Готские поселения располагались в Западной Паннонии, Далмации, Коттийских Альпах, в районе Милана и Павии, западнее Равенны, но особенно в Пицене и Северном Самнии (ср.: Procop. Bel. Goth., II,29,2). В целом можно заметить, что даже при всей дискуссионности вопроса источники все же говорят именно о наделении готов землей.
В Variae Кассиодора (I,24) сохранился уникальный документ – мобилизационный приказ Теодориха, изданный королем в первой половине 508 г.: «Сражения более свойственны готам, нежели переговоры, ведь воинственному роду представляет радость подтвердить это: конечно, не уклонится от труда тот, кто возжаждал славу доблести. (2) И поэтому мы при поддержке бога – создателя, благословляющего всё, – постановили определить ради общей пользы войско для Галлий, чтобы одновременно и вам была возможность продвижения по службе, и нам гарантировать это, увидев сосредоточение ваших заслуг. Ведь в мирное время похвальная храбрость незаметна и тогда проявиться она не имеет возможности – скрыт весь блеск заслуг. Вот поэтому мы распорядились через нашего сайона Нанда известить, чтобы вам всем количеством во имя Бога двинуться в поход достаточно снаряженными по традиционному способу оружием, конями и всеми необходимыми вещами в восьмой день до наступления июльских календ, с покровительством Бога, так, чтобы проявилась заключенная в вас доблесть родителей ваших и наш приказ успешнее исполнился. (3) Побудите юношей ваших к марсовой науке: пусть они увидят у вас то, что смогут передать потомкам; ведь что в юности не выучено, в зрелом возрасте незнакомо. Даже сами стервятники, пищей которых всегда является добыча, гонят своих отпрысков, слабых от рождения, из гнезд, чтобы они не привыкли к безмятежному покою. Крыльями они бьют оставшихся, заставляя молодых птенцов летать, как им и подобает существовать, от чего можно представить их материнскую заботу. Вы же, которых и природа возвысила, и любовь к славе побудила, стремитесь оставить таких сыновей, которых, как известно, отцы ваши в вас сохранили».
Как видим, указ отчетливо делится на три части. В преамбуле постулируется справедливое положение о том, что готам более свойственно состояние войны, нежели пребывание в мире, поскольку они еще не утратили воинственный племенной дух. Центральное место в документе занимает сам приказ о мобилизации. Этот приказ не конкретный, а достаточно общий. В нем не обозначено ни место сбора войска, ни конкретные меры приготовления к походу. Видимо, частные указания должен был дать сайон Нанд, а приготовления воинов к походу были традиционны и не нуждались в дальнейшей конкретизации. Сам указ обращен ко всем готам, а не к отдельным командирам (например, тысячникам), которые могли быть ответственны за мобилизацию. Это – своего рода декларация о проведении мобилизации. Ведь указ составлен на официальном языке готской Италии – латыни, которую вряд ли понимали все рядовые готы, к которым фактически обращен документ. Последняя часть указа (§ 3) обращена в будущее: она призывает готов воспитывать юношество в традиционном воинственном духе и исполнять службу так, чтобы быть образцом для подражания молодежи. Данный акцент на воспитании подрастающего поколения в племенном духе должен был быть особенно актуальным в связи с тем, что уже в течение полутора десятка лет готы находились в среде римлян и подвергались культурному влиянию последних в различных областях, в том числе в сфере образования и воспитания. Поддержание традиционных племенных ценностей в этой области оказывалось особенно актуальным для поддержания этнического самосознания народа. Именно в данной части указа присутствует риторика, которая в принципе неуместна в военном документе, что, с одной стороны, может объясняться желанием короля образно подчеркнуть значимость темы, а с другой – нельзя исключить, что тут присутствует просто литературная обработка указа самим Кассиодором. В целом письменный приказ представляет собой римскую традицию работы военной канцелярии, а не готскую племенную, хотя, естественно, текст составлен для данного конкретного случая.
Согласно мобилизационному указу Теодориха, готы должны были выступать с войском, «снабженным по установленному обычаю в достаточной мере оружием, конями и остальными необходимыми вещами» (Cassiod. Var., I, 24, 2). Очевидно, готы должны были снабжать себя конем, оружием и снаряжением, поскольку они получали донативы и владели землей, с которой, собственно говоря, они и несли службу. Кроме того, государство по-прежнему располагало оружейными фабриками, как и в имперское время находившимися под государственным контролем со стороны магистра оффиций (Cassiod. Var., VII,18—19). Согласно Notitia dignitatum (Oc., IX, 24—29) в позднеримское время фабрика по производству стрел располагалась в Конкордии, луков – в Тицине, щитов – в Кремоне, наступательного оружия и тех же щитов – в Вероне, панцирей – в Мантуе, спат – в Лукке. Вероятно, эти производства продолжали функционировать и выпускать вооружение. В ходе кампании интендантство обеспечивало своих воинов оружием и конями (Cassiod. Var., I, 40; VII, 18—19; Procop. Bel. Goth., I, 11, 28) – это, естественно, уже изменение в военном устройстве по сравнению с более древним племенным – прямое продолжение римской системы снабжения армии (ср.: Cassiod. Var., I, 1, 3).
Согласно официальной идеологии Теодориха и его преемников гот должен был служить, а римлянин – наслаждаться миром (Cassiod. Var., VII, 3, 3; VIII, 3, 4; IX, 14, 8; XII, 5, 4), но это можно было декларировать, пока страна не подвергалась нападению и не находилась в кризисе. В реальности и римляне должны были нести военные обязанности. Поскольку Теодорих обладал властью принцепса над римлянами, то он предписал последним служить как при императорах (Anon. Vales., 60). Несмотря на то что основой армии во время Поздней империи были варварские подразделения, а также отряды, набранные из добровольцев и сыновей солдат, воинская повинность не была отменена. Судя по указам Валентиниана III от 440 и 443 гг., боеспособных рекрутов должны были поставлять сельские местности, за что несли ответственность местные магнаты и власти (Nov. Val., 6,1—2). Готское правительство в случае большой необходимости привлекало к службе римлян (Procop. Bel. Goth., V,11, 28), которые обычно занимались постройкой и починкой укреплений (Cassiod. Var., I,17; 25; 28; III, 44; XII,17). Положение изменилось в ходе войны на Апеннинах. В ходе войны при дефиците живой силы каждый умевший обращаться с оружием представлял ценность. Уже во времена Витигиса известен знатный римлянин, которой сражался на стороне готов, видимо, не в качестве простого рядового (Procop. Bel. Goth., II, 6, 3). Вероятно, служили в первую очередь добровольцы (Procop. Bel. Goth., I, 28,1; 29, 23). Для увеличения численности боеспособных солдат Тотила зачислял в войско с равными с готами правами и с сохранением имущества воинов из сдавшихся ему гарнизонов (Procop. Bel. Goth., III, 30, 21—22; 36, 24—28; 37,14), а также дезертиров из византийской армии (Procop. Bel. Goth., III, 23, 3).
Позднеримское законодательство во избежание внутренних мятежей пыталось ввести запрет на ношение оружия гражданскими лицами, исключая его использование на охоте и во время путешествий или плаваний (Digesta, 48, 6,1). В 364 г. указом Валентиниана I и Валента было запрещено применение оружия без особого императорского разрешения (CTh., XV,15,1). Однако, в связи с невозможностью государства обеспечить безопасность своим подданным, этот запрет был ослаблен: в 391 г. было позволено защищаться от мародеров (CTh, IX,14, 2), в 440 г. Валентиниан III даровал провинциалам право защищаться самим против совершающих набеги вандалов (Nov. Val., 9; ср.: Nov. Maior., 8); согласно другому указу Валентиниана от 445 г. для западноафриканских областей, запрещалось набирать частные военные отряды, кроме как для борьбы с врагами империи (Nov. Val., 13,14). Учитывая нестабильную обстановку в государстве, последние стали постоянным атрибутом богатого магната. В последней трети V в. частные армии стали нормальным явлением в неспокойной тогда Галлии, в частности сын Авита Экдиций сумел собрать на свои средства значительные силы в 471 г. (Sidon. Epist., III,3,7).
Первоначально в готской Италии римляне могли носить оружие, однако после еврейских погромов в Риме и Равенне (519—520 гг.) Теодорих запретил его ношение (Anon. Vales., 60; 83). С одной стороны, подобный запрет объясняется тем, что правитель не особо доверял римлянам, опираясь на свое племенное войско, а также тем, что у него не было такой острой необходимости привлекать дополнительные силы из римлян для ведения боевых действий. В случае же угрозы войны боеспособность местного населения специально поддерживалась. Так, Теодорих в 507—511 гг. приказал своему комиту Осуину обучать жителей Салон, столицы Далмации, владению оружием (Cassiod. Var., I, 40). Речь явно шла не о готах, которые служили в гарнизоне и которые и так умели владеть оружием, а о мужском боеспособном населении, которое, получив оружие из государственных арсеналов, должно было поставлять подкрепления в минуты опасности. Знатные римляне в процессе своего обучения не только продолжали получать физическое воспитание в гимнасии, но и обучались владению оружием (Cassiod. Var., IX, 23, 3: armis exercuit). Они даже устраивали показательные выступления со стрельбой из лука и метанием дротика с накрученным на нем ремнем-аментумом для увеличения длины броска (Ennod. Paneg., 19, 84).
Должны были служить и национальные меньшинства. В 536 г. евреи Неаполя яростно сражались на стороне остроготов, достаточно лояльно относившихся к иудаизму, против византийцев (Procop. Bel. Goth., I,10, 24—25). А племянник Витигиса Урайя в 539 г. пошел на помощь осажденной Равенне не только с готами, до этого охранявшими альпийскую границу, но и с 4000 лигурами (Procop. Bel. Goth., II, 28, 31).
Невольники, как часть италийско-готского социума, также участвовали в кампаниях. Они в походе сопровождали своих господ и, пользуясь неразберихой и изменчивостью походной жизни, бежали в массовом порядке, о чем говорит специальный указ Теодориха спатарию Унигису о возвращении беглых в 508 г. (Cassiod. Var., III, 43). Видимо, рабы были обычными обозными, а не воинами. Впрочем, в экстренных случаях в армию набирали даже рабов, как это делал Тотила в 546 г. c перешедшими на его сторону невольниками (Procop. Bel. Goth., III,16,14—15; 25). Данная политика, впрочем, не уникальна: в позднеимператорскую эпоху в случаях опасности рабов также зачисляли в армию, обещая свободу.
Поскольку товаро-денежные отношения были не так развиты, как ранее, то и наемничество не было распространено в постримских государствах у Теодориха. Кассиодор, однако, упоминает гепидов, нанятых королем для службы в Южной Галлии, видимо в 523 г., которые получали подорожные в размере трех солидов на товарищество-condoma (Cassiod. Var., V,10—11), тогда как сами готы не получали во время похода наличные.
Развитие военной структуры в визиготском государстве, хотя оно и существовало три века, достаточно сложно проследить в источниках, специально об этом не говорящих, но все же эта эволюция проглядывает в них. Еще будучи в Аквитании, готы воспользовались римской «системой госпиталитета», согласно которой, как можно понять из источников, расселявшиеся среди римлян варвары получили две трети обрабатываемой и половину необрабатываемой земли. Однако У. Гоффарт доказывает, что по крайней мере в V в. эта система была лишь обычным старым налогом, две трети которого теперь шло воину на содержание, а одна треть – властям, в частности королю. Более убедительным, однако, представляется мнение чилийского историка Р. Кригера, который в своей диссертации достаточно убедительно доказывает, что владение землей в государстве визиготов в Аквитании развивалось постепенно: сначала на короткое время готы воспользовались правом госпиталитета в домах римлян, потом получили в пользование треть земельных владений, а после становления государства, около 426 г., – две трети, которые через полвека перешли в собственность новых владельцев. В любом случае готы могли приобретать или получать в дар земельные владения, становясь после этого собственниками (LV, X,1,8) и уже платя налоги государству (LV, X,1,16).
При короле Эврихе (466—484 гг.), правление которого пришлось на неспокойное время падения Западной Римской империи, оформляются структуры государства со столицей в Тулузе, теперь уже не связанного с Римом стесняющими союзными договорами, предоставлявшими по существу лишь внутреннюю автономию. Уже при предшественнике Эвриха, Теодорихе II (453—466 гг.), существовал королевский двор с придворными, составлявшими и руководство государства, и свиту короля (officium palatini). Нам известен комит оруженосцев (comes armigeri – Sidon. Epist., I,2,4) – возможно, командир гвардии, которая охраняла короля при приемах и несла вахту у сокровищницы и вокруг дворца по ночам (Sidon. Epist., I, 2, 4; 10). В свите короля находились не только готы, но и римляне, которые с 460-х гг. занимали также многочисленные посты в гражданской администрации, продолжавшей функционировать по старому образцу, ведь фактически готское руководство было поставлено над существовавшим местным бюрократическим аппаратом распоряжением центральных имперских властей согласно договорам.
В последней трети VI в. король Леовигильд наряду с дворцовым церемониалом установил (или, скорее, реорганизовал) по византийскому образцу и дворцовые должности. Система управления государством стала еще более сложной. При самом дворце – palatium (aula) regis – выделился аппарат управления officium palatinum, состоявший из придворных различных рангов: primates (optimates, primi, maiores), mediocres и minores palatii, которых назначал король по своей воле (Conc. Tolet. XIII, c. 2, Vives 1963: 416—419). Для нас представляют интерес военные должности двора. Среди подписавших постановление VIII Собора в Толедо (653 г.) упоминаются два комита спатариев (comes Spatariorum), Кумефренд и Куниэфред (Conc. Tolet. VIII, Vives 1963: 289). Поскольку и среди других подписавших постановление комитов из одного и того же «департамента» оказывается по два-три человека, то можно предполагать, что часть их носили лишь почетные титулы, а не служили при дворе в определенной должности. По крайней мере если принять версию, которую приводит Родриго де Рада, о том, что Юлиан был comes spatariorum (Roder. Hist. Hisp., III,19), то последний был губернатором Сеуты в Африке и лишь наезжал ко двору. Происхождение должности комита спатариев Х. Вольфрам связывает с реформированием более древнего comes armiger тулузского двора, впрочем, наименование spatarii, скорее, говорит об их положении при дворе, сходном с позднеримским-византийским, по образцу которого они и были сформированы как лейб-гвардия короля. Внутренняя организация спатариев в источниках не упоминается. По предположению испанского историка К. Санчеса-Альборноса, они составляли по имперскому образцу несколько scholae Palatinae, ведь существовало несколько комитов, каждый из которых как раз и командовал одной схолой, однако спатариев не могло быть очень много. Судя по подписям под постановлением XIII Толедского собора (683 г.), этот род службы был крайне почетен и занимали ее обычно готы: шесть человек были еще одновременно комитами, а один, гот Сисимир, еще и дуксом (Conc. Tolet. XIII, Vives 1963: 435: spatarius et comes).
Х. Вольфрам полагает, что уже при тулузском дворе существовала должность констебля (comes stabuli), известная нам лишь среди подписей под постановлением XIII Толедского собора, когда ее носил гот Гискламунд. Действительно, упоминается, что в 415 г. король Атаульф был убит готом Дубием, возможно конюхом, «проводя, как привык, время в конюшне» (Olymp. frg., 26 = Phot. Bibl., 80, 60a), позднее Теодорих II в свободное время любил осматривать свою конюшню (Sidon. Epist., I, 2, 4), в которой должен был работать некий персонал. Однако, возможно, должностная структура Тулузского королевства еще не была конституализирована, а сама должность констебля восходила к позднеримскому comes sacri stabuli (CTh, XI,1, 29; 17, 3), которую, например, при Юстиниане занимал Велизарий (Fredeg., II, 62). В Толедском королевстве король располагал своей конюшней, а возможно, и своими лошадиными заводами, которыми и заведовал констебль. Работали же на королевских конюшнях рабы (stabularii), которые даже обладали определенными привилегиями, в частности освобождением от пыток при даче показаний (LV, II, 4, 4).
Арабские авторы позволяют предположить, что по крайней мере при последних двух монархах существовала должность главнокомандующего, не прослеживающаяся по собственно испанским источникам. Родерик, по словам ибн Кутийи, был «каидом войск монарха», которого аль-Маккари именует «командиром конницы» Витицы, рассматривая по средневековой традиции каждого воина как всадника (Kouthya, p. 430; al-Makkarí, p. 254). Против высадившего Тарика Родерик, уже будучи королем, направил племянника, «своего главного командира» (Al-Bayano’l-Mogrib, p. 12), а согласно Кутейбе, Тудмир (= Теодимер) был оставлен управлять страной, когда Родерик пошел походом на басков (Koteybah, p. LXX). Видимо, в неспокойное время последних лет существования Толедского государства происходила определенная милитаризация государственного аппарата, выражением которой как раз и явилось появление данной должности, скорее всего перманентной, а не временной, на период конкретной кампании.
При королевском дворе в столице Толедо существовал «пажеский корпус», напоминавший, вероятно, pueri regis Меровингов. Возможно, в какой-то форме он существовал уже при тулузском дворе. По крайней мере Сидоний упоминает, что «мальчик»-puer подавал королю лук (Sidon. Epist., I,2,5), что вполне соответствует обязанностям пажа. Арабская традиция единодушно рассказывает о том, что у готской знати существовал обычай посылать ко двору в Толедо своих сыновей для обучения, службы монарху и последующего производства в командные должности, а также дочерей – для образования, помощи по хозяйству и последующего замужества на сыновьях той же знати. Как замечает «Ахбар Маджмуа», «дети знати тут получали образование, они одни имели право прислуживать монарху», а Идари уточняет: «юноши использовались для внешних служб, а девушки делали работу внутри дворца». Если говорить о программе обучения, то оно базировалось на христианской латинской культуре (теология, латинский язык, грамотность). Раннесредневековый трактат по воспитанию Institutionum disciplinae, авторство которого приписано Исидору Сивильскому, однако, по мнению П. Рише, написанный позднее, во второй половине VII в., для идеального обучения чада некоего знатного князя, уделяет внимание не только умению читать и петь, а также обучению риторике, философии, медицине, астрономии, математике, но и гимнастическим упражнениям в плестре, верховой езде, метанию и даже сражению. Видимо, молодежь при дворе воспитывалась вместе с наследным принцем, с целью последующего составления его свиты из надежной и дружественно настроенной молодой знати, что было особенно важно, учитывая шаткое положение визиготских монархов. С другой стороны, девушки пребывали в женских покоях и составляли свиту принцессы, о чем упоминает в своей поэме, посвященной принцессе Гелесвинте, дочери короля Атанагильда (555—567 гг.), Венанций Форнунат (Venant. Fortun. Carm., VI, 5, 37—38; 83—84; 117—118; 135—136). В целом же юноши проходили процесс социализации под присмотром монарха, который затем выбирал согласно их способностям кандидатов в будущие командиры, а заодно они получали необходимый набор знаний и умений, не в последнюю очередь связанных с военным делом. Как и у остроготов, этот институт, скорее всего, развился из обычный системы заложничества.
Готская монархия родилась из военного лидерства, и эта традиция продолжалась на всем протяжении существования государства западных готов. Даже в VII в. короля формально выбирали (Julian. Hist. Wamb., 2—3; Chron. Alfons., 1). За трусость же, проявленную в бою, короля могли просто отстранить от власти или даже убить (Isid. Hist. Goth., 37; 40). Король являлся в первую очередь верховным главнокомандующим, который сам возглавлял войско в крупных кампаниях. При монархе в походе функционировал военный совет, состоящий в первую очередь из seniores, то есть комитов и дуксов – военачальников и командиров подразделений, а также гардингов (Julian. Iudicum, 5; Hist. Wamb., 9). Хотя считается, что обычно дружинники в совете не участвовали, но по крайней мере наиболее опытные из них, так сказать, унтер-офицеры, вполне могли принимать участие в заседаниях военного совета, делясь своим боевым опытом. Именно на этом совете обсуждались планы будущей кампании (Julian. Hist. Wamb., 9). После чего назначалось время и место сбора войска (Julian. Hist. Wamb., 7). Если же король сам не отправлялся в поход, то посылал вместо себя представителя королевского дома, доверенного дукса или комита. Этим военачальником не обязательно был опытный военный. Так, в 673 г. отряд войска Вамбы в Септимании возглавлял комит виночерпиев Вандемир (Julian. Hist. Wamb., 15). При короле Виттерихе (603—610 гг.) отправление отдельного военачальника как главы похода стало правилом (Isid. Hist. Goth., 58).
В готской Испании комиты являлись градоначальниками, которым подчинялись и отряды, стоящие в контролируемых ими районах. Войска провинции возглавляли губернаторы-дуксы. Комитами обычно назначались готы, тогда как дуксами – и готы, и римляне. В «Житии святого Фруктуоза», написанном во второй половине VII в., упоминается некий «дукс войска провинции» (Vita Fructuosi, 14: dux exercitus provinciae; ср.: 2: dux exercitus Spaniae), которого некоторые исследователи рассматривают как особого военачальника, руководившего войсками провинции в военное время, однако, вероятно, это простое описательное название, а не точное обозначение должности наместника, ведь по крайней мере нам известно, что в 589 г. дукс Лузитании командовал войсками (Joan. Biclar., а. 589, 2), а в 673 г. – дукс Таррагонской провинции (Julian. Hist. Wamb., 7; 11). Как и в поздней империи, должностные лица были одновременно и судьями своих подчиненных, это, в частности, касается и военных командиров. В целом можно вслед за испанским исследователем Л. Гарсией Мореной говорить об общей милитаризации государственного управления в Толедском королевстве, когда военные занимали значительную часть должностей в бюрократическом аппарате.
В V в. армия Тулузского королевства отчетливо делилась на три составляющих: сами готы, варвары-федераты и привлекаемое на службу римское население. Все готы по племенной традиции оставались военнообязанными. Они, в первую очередь знать, должны были приносить клятву верности королю, которая впервые упомянута в постановлении IV Толедского собора в 633 г. (Conc. Tolet. IV, c. 75, Vives 1963: 218—219; ср.: Julian. Hist. Wamb., 8). Как видно из «Жития святого Авита», во времена существования Тулузского королевства всех воинов, получавших донативы, вносили в отдельный регистр (Vita Aviti, p. 362), что, впрочем, вполне естественно для избежания недоразумений и двойной оплаты. Позднее Исидор Севильский однажды упоминает, что для службы в военном отряде (in legionem) сначала нужно было зарегистрироваться в специальных «табличках». Вероятно, местные власти вели более-менее строгий учет военнообязанных, внося и вычеркивая их из специального списка, за что несли ответственность перед центральным правительством (ср.: Vita Fructuosi, 14). Причем из сообщения Исидора ясно, что в списки заносили не при рождении мальчика и не в его детские годы (в таком случае все должны были бы служить безоговорочно), а гораздо позднее: возможно, по достижении совершеннолетия. Впрочем, остается неясным, во сколько лет юный гот считался совершеннолетним. Согласно законам за убийство простого человека наибольший штраф полагался, когда жертва была в возрасте 20—50 лет, тогда как сумма, выплачиваемая за убитого мужчину в возрасте старше 50 и младше 15 лет, была значительно меньшей (LV, VIII, 4,16). Данный закон ясно говорит о трудоспособном возрасте населения, который обычно совпадает с призывным возрастом. Это подтверждают и свидетельства разночтений в двух манускриптах закона Эрвига (LV, IX, 2, 9), согласно которым магнат должен был приводить в армию десятую часть рабов в возрасте 20—50 лет. Видимо, данный указ устанавливал определенные параметры для отбора сервов, препятствуя господам приводить в армию менее ценных слишком молодых или очень старых рабов, ведь, судя по этому же закону Эрвига, верхний лимит службы у свободных воинов не был чисто возрастным, а устанавливался потерей боеспособности по возрасту или болезни.
Как уже говорилось, в визиготских законах середины VI – второй половины VII в. упоминаются воинские подразделения в 1000, 500, 100 и 10 воинов (LV, II,1,27; IX, 2,1—5). Однако по какому принципу и на какой основе они комплектовались, законодательство не сообщает – эта информация была бы тут излишней. По крайней мере ясно, что принцип набора воинов был территориальный и подразделения организовывались на десятичной основе местными военными властями. Десяток (decania) был наименьшей организационной единицей, аналогичной современному взводу, во главе которого стоял десятник (decanus). Видимо, десять десятков объединились в сотню (centena) – аналог роты, – возглавляемую сотником (centenarius). Сотня уже могла быть тактической единицей, действовавшей самостоятельно в мелких военных операциях. Когда речь в источниках идет об отрядах в триста-четыреста бойцов, мы можем предполагать, что он состоял из сотен. Аналогом батальона была полутысяча во главе с пятисотником (quingentenarius). И логично представить, что данное подразделение состояло из пяти сотенных отрядов. Стоит обратить внимание, что в одном из «древних» (то есть эпохи короля Леовигильда) законов при наборе войска тиуфад имеет дело с сотником, а тот с десятником (LV, IX, 2, 5) – пятисотник не упомянут. Из этого можно сделать предположение, что набором занимались те командиры, подразделения которых были реальными боевыми единицами, тогда как полутысяча могла быть просто определенной административной единицей.
Высшей организационной единицей армии была тысяча – аналог полка. Логично предположить, что она состояла из двух пятисотенных отрядов. Именно тысячи были основной тактической единицей, которая могла действовать на поле боя со значительной долей самостоятельности. Поэтому и король Сисебут в своей поэме именовал рядового бойца «тысячным воином» (Sisebut. De libro rotarum, l. 5: miles millenus). Должность тысяцкого (millenarius) в Толедском королевстве исследователи обычно идентифицируют с тиуфадом (thiuphadus), который возглавлял «тиуфу» (thiupha) (LV, IX,2,1). Тысяцкий лишь дважды упомянут в визиготских документах, да и то в связи со своими судебными полномочиями: в Кодексе Эвриха (CE, 322) и в законе короля Реккесвинта (649—672 гг.) (LV, II,1,27), но при этом в переложении первого закона в кодексе Леовигильда эта должность опущена – его функции исполняет судья iudex (LV, IV, 2,14). В законе же Реккесвинта thiuphadus, а затем millenarius упомянуты вместе наряду с рядом других военных и гражданских чиновников, выполнявших судебные функции, что исключает их полную идентификацию в середине VII в. А если принять, что должности чиновников поставлены в порядке убывания их значимости по иерархической лестнице (dux, comes, vicarius, pacis adsertor, thiuphadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, defensor, numerarius), то тиуфад был старше тысячника. По предположению немецкого историка Д. Клауде, в VII в. тиуфад стал областным командиром в «графствах», под руководством которого находилась не тысяча, а меньшее количество воинов, варьировавшееся от региона к региону. В указе короля Эрвига тиуфад упомянут как персона «низшего ранга» (inferior) наряду с вербовщиком (LV, IX, 2, 9). Это выглядит несколько странным, учитывая, что тысяцкий, судя по остроготским и вандальским аналогам, был значимой персоной. Возможно, это объясняется тем, что в данном законе высокопоставленными военными чиновниками считаются дуксы и комиты, а не стоящие ниже их тиуфады.
Поскольку законы не сообщают, об организации пехоты или конницы идет речь, то логично предположить, что имеются в виду оба рода войск, обладавшие одинаковой десятичной организацией. Очевидно также, что списочный состав отряда, зарегистрированный в «табличках», в любом случае мог отличаться от реального боевого в сторону уменьшения количества воинов, которые выбывали из подразделения в ходе кампании.
Можно предполагать, что тысячные отряды объединялись в корпуса по 10 000 человек во главе с дуксом если не на постоянной основе, то по крайней мере для выполнения тактических операций. Нам известно, что в 673 г. Вамба выделил из основной армии передовое соединение в 30 000 воинов во главе с четырьмя дуксами и еще потом десятитысячный отряд под командованием другого дукса (Julian. Hist. Wamb., 12—13). В таком случае можно предположить, что каждый дукс командовал своим корпусом на равных правах с другими или же один из дуксов был облечен верховным командованием и ему подчинялись трое остальных. Поскольку в ту эпоху, насколько мы это знаем, подобные большие армии собирались нечасто, то и десятитысячные корпуса, вероятно, не были постоянными. Они, видимо, набирались в отдельных провинциях и находились под командованием дукса данной провинции (Joan. Biclar., а. 589, 2; Julian. Hist. Wamb., 7; 11).
Д. Перес Санчес доказывает, что в VI в. в Испании существовала постоянная армия, которая в VII в. эволюционировала в войско, состоящее из ополчений магнатов, впрочем, данное предположение справедливо подвергается критике. Как о более или менее постоянных силах, скорее, можно говорить лишь о гарнизонах и королевской гвардии.
Основу постоянной армии готов Испании составляли королевские дружинники, именуемые германским словом gardingi. Хотя само название упоминается лишь в документах последней трети VII в., но, очевидно, они существовали и ранее. Причем гардинги входили в число palatini, но находились не среди высшей знати, а стояли ниже на иерархической лестнице, являясь mediocres или даже minores palatini (Conc. Tolet. XIII, c. 2, Vives 1963: 416: ex palatini ordinis; LV, IX, 2, 9). В качестве своего содержания гардинги получали отчуждаемые земельные наделы. Еще в середине VII в. король мог даровать поместье именитому человеку с обязанностью последнего служить, даже секуляризировав эти земли у монастыря (Vita Fructuosi, 3). Гардинги, вероятно в своем большинстве, пребывали при дворе, по месту службы, а не в своих поместьях, как и другие готские магнаты (Kouthya, p. 432). Какое-то время или по определенным причинам гардинги могли пребывать в своих поместьях, поскольку указ Вамбы предусматривает мобилизацию воина из поместья, расположенного в зоне мобилизации (LV, IX, 2, 8). Как и другие знатные готы, гардинги должны были приводить свою челядь в армию, вероятно, из своего же поместья (LV, IX, 2, 9). Вообще же, можно заметить, что визиготская знать проводила часть времени в своих поместьях, ведя хозяйство, например считая стада (Vita Fructuosi, 2). И уж во всяком случае часть испанских готов постоянно жили в деревнях, о чем свидетельствуют погребения в сельской местности, которые рассматриваются именно как готские.
К постоянным силам Толедского королевства нужно отнести и не столь многочисленные гарнизоны, которые находились в «городах или крепостях» (LV, IX, 2, 6). При Теодорихе Великом во время фактического объединения обоих королевств остроготские отряды стояли в визиготских городах (Cassiod. Var., V, 39, 3). Гарнизоны также могли устанавливаться и на время, когда определенной части страны угрожала опасность. Так, гот Теодимер должен был защищать северный берег Гибралтарского пролива от вторжения мусульман, что он и сделал сразу же после высадки Тарика в апреле 711 г. (al-Makkarí, p. 268). Хотя пост, занимаемый Теодимером, неизвестен, он мог быть комитом города и защита территории входила в его обязанности, что он исполнил еще раз позднее, героически обороняя Ориуэлу.
Визиготы, получив от империи во владение Аквитанию, наследовали римские институты управления, позволившие им организовать свое территориальное королевство. Сами готы были относительно немногочисленны: по прикидкам в диссертации К. Ф. Штрохекера, в третьей четверти V в. они составляли лишь 2 % населения своего государства, выставляя при этом до 30 000 воинов. Поэтому, естественно, при необходимости готы вынуждены были привлекать для ведения боевых действий местное население, используя при этом авторитет местной же знати. Из-за фрагментарности и сложности интерпретации источников среди исследователей нет единого мнения, когда это произошло: во второй половине V в. (во время правления Эвриха или Алариха II), в VI в. или даже в VII в.. В Бревиарии Алариха (Lex Romana Visigothorum), изданном в 506 г. и представлявшем собой компиляцию материалов имперского Кодекса Феодосия, предназначенного для использования римскими подданными готского короля, статьи о мобилизации отсутствуют, что, казалось бы, говорит об их неактуальности и изменении самой системы набора. Причем сам Кодекс обладал силой вплоть до его аннуляции Реккесвинтом в 654 г. или даже несколько позднее. Однако источники показывают нам другую реальность: уже во время существования Тулузского королевства на службе у готского короля присутствует сенатская знать со своими отрядами, которая добровольно или нет оказывалась в действующей визиготской армии. Римская знать, ранее занимавшая высокое положение в административном управлении провинциями, теперь получила такой же при дворе визиготского короля, который, по существу, являлся наследником того же губернатора с аналогичными функциями управления.
Новая власть могла производить при необходимости мобилизацию, набирая новобранцев даже против их желания, в V в., вероятно используя старые римские принципы набора. Так, нам известно, что накануне войны с франками и своего окончательного разгрома при Пуатье, тот же Аларих II стал собирать армию: «кто из военного сословия (ex militari ordine) был способен силами, тому надлежало волей или неволей принять донатив короля и быть призванным вестниками с помощью настоятельного убеждения. Поэтому блаженный Авит, обладая большим цензом (censu majore), по рождению имея всадническое достоинство, должен был по принуждению следовать военному предписанию и, как ранее Мартин, служить ради получения донатива, будучи зарегистрированным среди прочих, с целью сражаться против вражеского войска франков» (Vita Aviti, p. 361—362). Как видим, система набора действовала принудительно и все боеспособные мужчины, которые подлежали призыву согласно своему социальному статусу, набирались волей или неволей в армию. Еще ранее, в 474 г., знакомый Сидония Аполлинария знатный галлоримлянин Кальминий был против воли мобилизован готами и как лучник должен был сражаться против своих же сограждан из Клермона (Sidon. Epist., V,12). В битве при Пуатье (507 г.) сын Сидония, комит Орвени, возглавлял многочисленный контингент из Клермона, который во главе с сенаторами сражался против франков на стороне визиготов (Greg. Turon. Hist. Franc., II, 37).
При надобности в визиготскую армию привлекались и национальные меньшинства. В 507—508 гг. стены Арля обороняли от франков и бургундов не только готы и местные жители – римляне, но и иудейский отряд (Vit. Caesar., I, 31: caterva Iudaica), что, очевидно, было вызвано особо сложными обстоятельствами осады, вынудившими призвать к оружию всех. Естественно, у отрядов из местных жителей были свои командиры и своя внутренняя организация, соответствующая позднеримской.
Сложной для интерпретации представляется фраза из указа в законах короля Эврига о том, что королевские сборщики войск «призывают готов идти в армию», о римлянах речи нет (LV, IX,2,2). Сам закон обозначен в кодексе как «древний», то есть восходящий еще ко времени Леовигильда. Вероятно, в законе готы упомянуты как главные и традиционные субъекты, подлежащие воинскому призыву, к которым был обращен указ короля и к которым сборщики прибывали персонально. Возможно, еще в это время была определенная традиционная разница в процессе призыва в армию готов и римлян, что осталось актуальным даже в 680-е гг. По мере унификации общества явно и система набора должна была стандартизироваться. Сначала, в 546 г., были официально разрешены браки между двумя народами, затем, в 589 г., готы приняли католичество, право унифицируется по крайней мере в 654 г. и в то же время идет интенсивная ассимиляция германского меньшинства: как считается, уже к началу VII в. исчезла всякая разница между готами и испанцами – оба народа стали даже говорить на одном романском языке. И, естественно, условия службы должны были стать одинаковыми.
В VII в. армия комплектовалась в значительной степени из ополчений магнатов, которые состояли из трех важнейших частей: персональной охраны, дружины и выводимых на войну сервов из своих латифундий. Наличие дружинников-буккелариев (buccellarii) по позднеримскому образцу было узаконено законодательством во второй половине V в. (CE, 310; LV, V, 3, 1). Буккеларии получали оружие, коней, часть добычи, а позднее и земельные наделы от своих господ. Эта полученная земля могла передаваться по наследству на условиях службы потомков, но при переходе к другому сеньору буккеларий должен был все полученное вернуть обратно (LV, V, 3, 4). Вероятно, сами буккеларии пользовались относительной свободой в выборе патрона. Визиготские сайоны, в отличие от буккелариев и их италийских «тезок», получали оружие в личную собственность от своего господина (CE, 311; LV, V, 3, 2) и, видимо, жили в его доме, составляя таким образом лейб-гвардию и свиту магната.
Самих воинов-дружинников могло быть очень значительное количество. Так, наместник Теодориха Великого в Испании будущий король Тевдис (531—548 гг.) набрал из иберийских поместий своей богатой супруги 2000 «дорифоров» (Procop. Bel. Goth., I,12, 51), – вероятно, буккелариев. У дукса Лузитании «римлянина» Клавдия прямо в доме было в наличии «большое множество» сопровождающих (Vit. part. Emeret., V, 10, 8), вероятно сайонов свиты, однако позднее, в походе против франков в 589 г., он располагал отрядом в 300 воинов (Joan. Biclar., а. 589,2). Вероятно, это и есть данное «множество» или по крайней мере избранная для похода его часть. В 711 г., накануне вступления мусульман в город, в Кордове остался «один патриций с четырьмя сотнями конных воинов и людьми низкого происхождения». Эти 400 всадников были личной охраной губернатора Кордовы, вероятно, теми буккелариями и/или сайонами. Градоначальник располагал еще и пехотинцами из ополчения, по словам аль-Маккари, «инвалидами и стариками», которым явно не придавали особого значения. Во время похода Мусы на север Испании у некоего правителя «скалы Галисии» осталось менее 300 человек (Al-Bayano’l-Mogrib, p. 19), видимо также гвардейцев, преданных своему сеньору.
В Тулузском королевстве по римскому образцу воины получали донативы во время службы, что ясно видно на примере вынужденной службы блаженного Авита. При Теодорихе Великом также и в Испании готы получали жалованье на тех же основаниях, что и в Италии (Procop. Bel. Goth., I,12, 48—49). Это служило одним из стимулов привлекательности военной службы. Однако в период Толедского королевства, насколько можно судить, воины уже не получали денежное содержание от короля, однако гарнизонам выдавали пайки-анноны, которые поставляли города и общины, за что отвечали комиты или специальные чиновники аннонарии (LV, IX, 2, 6: annonarii). Также во время боевых действий работала интендантская система снабжения армии оружием, в первую очередь наиболее быстро расходуемым метательным. Cохранилась надгробная надпись знатного гота Оппилы, который в сентябре 642 г. вез в армию груз метательных снарядов (jacula), но погиб при нападении басков. Естественно, воины получали еще и свою часть от добычи, что служило определенной наградой за службу.
О попытке наладить систему снабжения армии накануне мусульманского вторжения, видимо, свидетельствует на первый взгляд странное сообщение Луки Туйского о том, что Родерик, опасаясь восстаний, издал эдикт, предписавший изъять оружие и коней у населения и посылке их в Галлию и Африку (Luca Tud. Chron., III, 62). Вероятно, к этому постановлению относится характеристика, данная марокканским историком второй половины XIII – начала XIV в. ибн Идари образу правления Родерика, который «изменил законы правления и извратил традиционные обычаи королевства» (Al-Bayano’l-Mogrib, p. 4). Очевидно, население до этого времени не было разоружено, а приходило в армию со своим оружием, которое хранилось дома, что, с одной стороны, упрощало и ускоряло систему снабжения армии, а с другой – представляло собой возможность потенциального вооруженного мятежа. Простое изъятие оружия можно было бы объяснить желанием короля создать некую стабильность своему положению, но посылку оружия не в арсеналы, а в пограничные области, этим объяснить нельзя. За данным актом может стоять нечто другое, а именно: наличие потенциальной угрозы со стороны этих областей южным и северо-западным рубежам государства, куда и должны были отправиться вооружение и лошади с целью создания запасов и/или раздачи их неимущим или бедным воинам, обязанным служить в данных областях при вторжении врага. А поскольку времени было мало, приходилось прибегать к простой конфискации. Угроза из Африки понятна: это – арабы, которые совершили набеги на Испанию в 670-х гг. и в 710 г., угроза со стороны Галлии – не столь ясна: это могли быть франки или, скорее, конфликт с «альтернативным» монархом Агилой II, область правления которого располагалась как раз тут. И действительно, согласно рассказу ар-Рази, Родерик по совету герцога Юлиана отправил не только оружие, но и боеспособных воинов на границу с Африкой и Францией (Razi, 138 (p. 346—347).
Оттиск печати Алариха II, датированный, вероятно, вскоре после 484 г. Король показан, видимо, в панцире с наплечниками. Надпись гласит: Alarichus rex Gothorum («Аларих король готов»). Wien, Kunsthistorisches Museum.
Воспроизведено по: Roth 1979: 145—146. Taf. 54b.
Теодорих Великий в начале VI в. в письме к визиготскому королю Алариху II говорил о низкой боеспособности войска визиготов в связи с отсутствием у них военного опыта после Каталаунской битвы (Cassiod. Var., III,1,1). Видимо, все остальные многочисленные кампании восточных готов в Галлии и Испании во второй половине V в. италийский король считал незначительными. Хотя для поддержания воинов в боевой готовности небольшие локальные воины даже лучше, чем крупномасштабные боевые действия, ведущие к крупным потерям и ротации боевого состава (ср.: Isid. Hist. Goth., 54). Для поддержания боеспособности готов с оружием, видимо, собирали на смотры перед королем (Isid. Hist. Got., 35). И уж во всяком случае по прибытии контингента к месту сбора его осматривал военачальник (LV, IX, 2, 9).
Проблема уклонения от службы, а также дезертирства во время похода стояла остро уже при короле Эврихе, о чем свидетельствуют статьи из его кодекса (LV, IX, 2,1—4), а позднее и указы Леовигильда (LV, IX, 2, 5). Поскольку военнообязанные продолжали всячески отлынивать от службы, то король Вамба издал 1 ноября 673 г. указ, согласно которому все, включая клир, в областях, расположенных на расстоянии до 100 миль (ок. 150 км) от района боевых действий, должны были выходить по призыву властей в поход (LV, IX,2,8). Причем указ о мобилизации развозили специальные уполномоченные conpulsores exercitus, которые по своему статусу являлись королевскими рабами – servi dominici (LV, IX, 2, 2) и, вероятно, получали копии указа прямо из царской канцелярии. Если человек не явился в армию, то клириков в качестве наказания следовало отправить в ссылку, а мирян – лишить свободы, имущество же направить на возмещение ущерба, причиненного врагами. Удовлетворительной причиной для неявки в армию служила лишь болезнь, наличие которой должны были подтвердить свидетели. Но и при этом магнат все же должен был отослать свою дружину в армию (LV, IX, 2, 8).
В указе ясно говорится, что епископы, пресвитеры, диаконы и клир, не состоящий в духовной должности, должны служить в армии в случае оборонительной войны. Нам известно, что несколько ранее, в середине VII в., человек, уходя в монахи, выбывал из числа военнообязанных, о чем ясно свидетельствует случай со святым Фруктуозом (ум. 665 г.), во вновь основанный монастырь которого Ноно на самом юге Иберийского полуострова приходило столько желающих стать монахами, что дукс провинции выразил протест королю, аргументируя свою позицию тем, что в его регионе некому будет нести военную службу (Vita Fructuosi, 14). Согласно Исидору, если желающий стать монахом уже был внесен в военный регистр, то он должен был тем не менее служить (Isid. Regl., IV, ll. 85—89). Таким образом, получается, что уже в первой трети VII в. даже часть черного духовенства должна была служить, в чем можно видеть отголоски римской традиции: указ императора Валента второй половины 370-х гг. о призыве монахов в армию (Oros. Hist., VII,33,1—3). На IV Толедском соборе (633 г.) священникам запретили под страхом заточения в монастырь применять оружие в ссоре (Conc. Tolet. IV, c. 45, Vives 1963: 207), что ясно свидетельствует о том, что священнослужители умели пользоваться оружием и что оно было у них в наличии под рукой и, можно полагать, неоднократно использовалось как аргумент в ходе дискуссии, чем, собственно говоря, и было вызвано появление данного постановления. Указ же Вамбы обязал служить духовенство, оказавшееся в зоне мобилизации для боевых действий. Речь в указе идет о белом духовенстве: епископы, пресвитеры, диаконы и клирики без звания (episcopis, presbiteris et diaconibus… clericis) – на монашество указ не распространялся. На XII Толедском соборе (681 г.) монахам вообще запретили воевать. В целом в документе не делается никакого различия в условиях службы между священниками и мирянами – и те и другие упоминаются в одном ряду и несут соответствующее наказание за уклонение от службы. Поэтому кажется, что они должны были и служить одинаково: сражаться во главе своих сервов. По крайней мере ар-Рази утверждает, что исход битвы при Гвадалете решило вступление в бой сил Юлиана и «епископа Опаса» (Razi, 39. p. 350), которого надо сопоставить с одним из сыновей Витицы. В общем, указ Вамбы показывает существенное отличие от классического Средневековья, в котором клир, как правило, не призывался в армию, ограничивая свою службу душевным попечительством. С другой стороны, документ явно показывает, с какой сложностью шел набор живой силы в действующую армию.
Однако и после указа Вамбы численность войск оказывалась недостаточной, и для увеличения численности армии король Эрвиг 21 октября 681 г. обнародовал указ, постановлявший, чтобы каждый именитый воин, будь то дукс или комит, гардинг или королевский раб, или даже вольноотпущенник, выходил в поход в сопровождении десятой (а не двадцатой, как раньше) части своих сервов, которых следовало вооружить за счет господина. Если же господин привел меньшее количество рабов, то, по исследовании вопроса, «разницу» должны были отобрать в пользу правителя. Более того, в законе специально указывалось, что военнообязанные должны приходить в определенное время и в назначенное место. В противном случае особа высокого звания отправлялась в изгнание, а его имущество конфисковывалось королем, лица же более низкого статуса наказывались двумястами ударами плетьми и штрафом в фунт золота, за неимением которого человека обращали в рабство. Если же человек был болен, его должен был освидетельствовать местный епископ (LV, IX, 2, 9).
Если указ Вамбы касается только оборонительной войны или восстания и ограничивается определенным радиусом действия, то закон Эрвига, очевидно, распространяется на все виды боевых действий, независимо от территории их проведения. Согласно указу Вамбы, все боеспособные мужчины, живущие в радиусе до 100 миль от района боевых действий, должны были выходить в поход. Это позволяло при внешней агрессии собрать войска в достаточно короткий срок: из наиболее удаленных частей мобилизационной зоны отряды дошли бы до места сбора за пять суток, считая скорость их движения по 30 км в день. Причем в указе, видимо, имеются в виду локальные боевые действия, которые могли посчитаться местными властями не столь опасными, как, например, набег горцев, а не крупное вторжение противника на визиготскую территорию. В подобном набеге горцы могли просто просочиться через области, контролируемые пограничными гарнизонами, и напасть на гражданское население. Которое и должно, согласно указу, с помощью своих соседей встать на борьбу.
Данные два закона можно считать военной реформой, усиливавшей не только контроль за набором армии, но призванной увеличить ее количественный состав. Эти меры, очевидно, были вызваны определенным упадком сложившейся военной системы у испанских готов, которые теперь служили на одинаковых условиях с римлянами. В VII в. количество свободных, то есть военнообязанных, уменьшилось, а блага цивилизации значительно сократили былую варварскую воинственность, и потенциальные бойцы более ценят свое богатство и покой, нежели абстрактное государственное благо, на что и сетуют авторы обоих документов.
Эти два документа официально распространили воинскую повинность даже на священнослужителей, которым следовало со своими дружинами выступать в поход. Теперь все свободное взрослое население страны должно было служить под страхом наказания, включая вольноотпущенников, которые по своему социальному статусу были ближе к рабам, чем к свободным (LV, V, 7,12—14). Воин должен был приходить в армию в сопровождении 10 % своих рабов (если такие имелись), что в два раза больше, чем требовалось до этого. Еще во второй половине V в. рабы находились в действующей армии вместе со своими господами, впрочем, видимо, в основном для прислуживания последним во время похода (CE, 323; LV, IV, 2,15; VIII,1, 9). Известно, в частности, что в 642 г. того же Оппилу в походе сопровождали клиенты и рабы. Армия становится теперь во многом состоящей из ополчений сеньоров: собственно дружин и сопровождающих их сервов. Если первые, скорее всего, были конными и составляли основу контингентов магнатов, и соответственно армии, то сервы были просто пехотинцами, ведь господин обязан только снабдить их оружием, но не конями (LV, IX, 2, 9). По крайней мере в процессиях сервы шли пешими впереди коня, на котором восседал их господин (Vit. part. Emeret., V,11,19). Видимо, они, в основной своей массе не обладая военной закалкой, использовались главным образом на вспомогательных военных службах, в первую очередь таких, как осады. Можно полагать, что реально в бою участвовала примерно двадцатая часть сервов (4,8 %), которая, согласно двум манускриптам закона Эрвига (LV, IX, 2, 9), должна быть защищена доспехами. Эта 1/20 часть и составляли собственно «боевых холопов» магната. И, естественно, подчинялись эти контингенты не непосредственно военачальникам, а своим господам, которые из-за этого обладали политическим весом в армии.
Монета короля Родерика (710—711 гг.), отчеканенная в Толедо, на аверсе которой показан бюст короля, а на реверсе – крест.
Воспроизведено по: Miles 1952: Pl. XXXVIII, 9.
Подобная система должна была позволить королям при нужде выставить значительное по масштабам раннего Средневековья количество войск. По оценкам американского историка Г. Холселла, в целом полевая армия постримских варварских королевств варьировалась в пределах 10 000—20 000. В армии же Родерика, которая была выставлена против Тарика в июле 711 г., большинство арабских хронистов насчитывают 100 000 воинов, которых аль-Маккари именует «всадниками», видимо, по средневековой традиции, когда воином считался именно всадник, однако, по сведениям историка XIV в. ибн Халдуна, у Родерика было лишь 50 000! Подобное количество выглядит явно завышенным для Западной Европы того времени, просто исходящим из положения, что врагов должна быть тьма-тьмущая. Более приемлемую численность полевой армии можно найти лишь в рассказе Юлиана о кампании Вамбы против восставших в Семптимании в 673 г.: король из основной армии выделил для быстрейшего взятия Нима сначала передовой отряд численностью в 30 000 воинов во главе с четырьмя дуксами, а потом еще послал к ним подкрепление почти из 10 000 человек во главе с дуксом Вандемиром (Julian. Hist. Wamb., 13; 15). В целом это была армия, собранная для войны с басками в горах, то есть не особо многочисленная, не предназначенная для крупных боевых столкновений и операций, вероятно, состоявшая в подавляющем большинстве из пеших, которым было сподручнее вести боевые действия на пересеченной местности. Причем из самой армии еще в Испании был выделен корпус дукса Павла, посланного на подавления мятежа (Julian. Hist. Wamb., 7), но затем присоединившегося к восстанию, а позднее, в ходе боевых действий, – еще три корпуса для самостоятельных операций против восставших (Julian. Hist. Wamb., 10), соединившиеся с армией позднее. При осаде же Нима к городу сначала был послан передовой мобильный отряд, который защищающиеся предполагали даже атаковать, но, опасаясь засады, отказались от этого намерения (Julian. Hist. Wamb., 13), затем подошел отряд Вандемира, а уже после взятия города – основные силы короля, в первую очередь гвардия. В 711 г. Родерик также получил известие о вторжении армии Тарика в Памплоне, когда он воевал с басками, но он сначала отошел в Кордову, где подождал подкреплений «из различных областей его королевства», а затем, когда все князья готов присоединились к нему, пошел на врага. Значит, армия Родерика могла быть немалой по своей численности, даже учитывая тот факт, что часть территории страны на северо-востоке находилась под контролем другого короля – Агилы II (710—713 гг.).