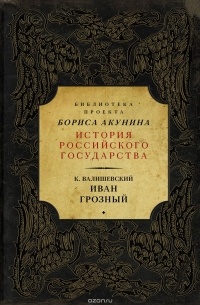Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
II. Новый закон
Людовик XI перед смертью мечтал собрать и объединить обычаи Франции. Эта мысль была осуществлена только при Генрихе Третьем. Но здесь еще не было кодификации. Русским законодателям 1550–1551 годов пришлось переработать существовавший уже раньше кодекс – Судебник 1497 года. В этом кодексе обнаруживались стремление к установлению в государственной жизни единообразия и попытка ввести общий для всех порядок судопроизводства. Русские законодатели по сравнению с западноевропейскими как будто имели первенство на своей стороне. Но это только кажущееся преимущество 1497 года в сущности почти не изменило юридических понятий и формы Русской Правды XI века. Только в отдельных случаях оно попыталось приспособить их к условиям своего времени. За исключением отдела о судопроизводстве и судоустройстве Судебник представлял копию древнего русского юридического памятника. Судебник Ивана III проникнут духом политической централизации. В законодательной деятельности Ивана IV проявилось два как будто противоречащих друг другу направления. Судебник 1550 года в некотором смысле делает шаг назад: он передает судебные функции старым местным организациям. Но в то же время с чисто юридической точки зрения он представляет собой хотя и робкое, но несомненное движение вперед.
Судебник Ивана IV 1550 года – памятник русского права XVI века, первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашённый единственным источником права. Принят на первом в Русском царстве Земском Соборе 1549 года при участии Боярской думы
Из этих двух сторон нового кодекса первая имеет несравненно большее значение. Задача тогдашней администрации целиком сводилась к отправлению судебных обязанностей. Поэтому новый кодекс проводил общую коренную реформу управления, правда, в очень смутных и неопределенных положениях. Но от литературных произведений того времени вообще нельзя ожидать большей определенности.
Реформа не явилась произвольным измышлением самого Ивана или его советников. Программа Ивана III была проникнута духом централизации, однако он уже допускал население к некоторому участию в суде. Население принимало участие в нем через своих выборных представителей – старост, сотских, добрых людей. Подобная уступка со стороны правительства была вызвана, очевидно, живучестью некоторых местных традиций. Однако роль этих выборных от народа лиц ограничивалась простым контролем судопроизводства и оставалась факультативной. Это были как бы обложки уничтоженных древних учреждений, а потому и рамки деятельности их были слишком сужены. Старосты, сотские, добрые люди были не везде, государство не заботилось ввести их повсеместно. Новый кодекс провозглашал намерение провести выборное начало и сделать его обязательным. Выборные люди должны были быть во всех судебных округах. Даже больше того. Во время малолетства Ивана центральное управление создавало большие беспорядки в областях: должностные лица часто пренебрегали своими обязанностями; силой вещей создались новые судебные власти. Кому-нибудь нужно же было задерживать и судить наполнявших в то время страну бродяг и разбойников. Сельские и городские общины разных областей ходатайствовали перед правительством о разрешении им выполнять судебные функции через выборных лиц. Правительство предоставляло населению эти судебные права особыми грамотами. А выборные органы этого нового типа учреждений стали именоваться губными старостами. Губой назывались части областей, те есть округа. Так, на губы разделялись Псковская и Новгородская области. Сначала эти новые местные суды не касались уголовных дел. Но с течением времени последние наравне с другими перешли в их ведение, и Судебник 1550 года дает только формальную санкцию совершившемуся факту. Одним росчерком пера уголовная юрисдикция была возложена на местные общины. И это был только первый шаг. Наступившие вскоре войны мобилизовали служилых людей, и за отсутствием их казалось естественным и удобным административные обязанности возложить на новые общинные выборные органы. Целым рядом грамот, изданных после 1555 года, правительство преобразовало свою финансовую организацию: теперь как распределение, так и сбор налогов передавались общинам.
Это было не более, не менее как частичное осуществление программы Ивашки Пересветова. Кормление уничтожалось устранением самих кормленщиков. После 1552 года Иван и не скрывал своих намерений реорганизовать систему администрации на этих началах. Служилые люди при этом должны были утратить существенную основу своих прав на землю. Характерно, что служилые люди и не протестовали против этого плана, с их стороны не слышится никаких жалоб. Они, очевидно, охотно соглашались отказаться от своих привилегий на землю даже при скромной денежной компенсации, но более верной, чем непостоянный доход с их приходивших в разорение поместий. Казалось, реформа даст общинам полную автономию и произведет коренную перемену в хозяйственном, социальном и политическом строе государства. Но она приостановилась. Как и следовало ожидать, люди оказались ниже идеала. Население во многих местах оказалось неподготовленным к выполнению возложенных на него обязанностей и не могло воспользоваться благами оказавшегося ему не по плечу самоуправления. С правом собственного суда была связана тяжелая ответственность. Некоторые области были очень редко населены, общинная организация поэтому встречалась с непреодолимыми препятствиями, даже самые подготовленные к общественной работе элементы не могли проявлять свою деятельность из-за разбросанности на огромных пространствах. Кроме того, население боялось ответственности и уклонялось от осуществления предоставленных ему прав самоуправления. Да и само правительство смотрело на общинную автономию как на привилегию, а по старым традициям всякая привилегия должна быть оплачена. Поэтому грамоты, устанавливавшие общинное самоуправление, сделались предметом торговли. Общины должны были покупать судебные права, которых лишались прежние должностные лица. Одни не решались на подобные денежные жертвы, другие не могли их произвести по бедности.
В этом отношении население края разделилось на две части. На севере по среднему и нижнему течению Оки население было промышленным, более сплоченным. Оно воспользовалось реформой. На юге недостаток материальных средств и низкий культурный уровень населения мешали ее проведению. С течением времени, с ростом населения и развитием его благосостояния, самоуправление могло распространиться повсеместно. Однако развитие общин скоро приостановилось: петля крепостного права все туже затягивалась и душила их. С другой стороны, укоренялся бюрократический режим и в центре, и в некоторых провинциях. Правительство накладывало свою руку на новые учреждения и искажало их. В конце XVI века губные старосты обратились в простых чиновников, назначавшихся правительством и зависевших от Москвы.
Неудачная попытка Ивана IV очень напоминает реформу, проводившуюся во Франции в XII–XIII веках Филиппом-Августом и Людовиком Святым. Этой реформой были созданы городские общины. Еще большую близость мы замечаем между преобразовательными попытками Грозного и мероприятиями X–XI веков во Франции, где путем грамот, даровавшихся крестьянам отдельных феодалов, было положено начало образованию сельских общин. Но между этими двумя явлениями есть существенная разница. Во Франции реформа была направлена на освобождение крестьян, в России же, напротив, она способствовала их закрепощению. Русские крестьяне были уже более несвободны в то время, когда Иван Грозный хотел воспользоваться их стремлением к независимости для своей государственной реформы, и они остались безучастными к намерениям царя.
С. В. Иванов. Приезд воеводы
Иван также следовал примеру Эдуарда I, английского короля, возложившего на gentry [дворянство] полицейские и судебные обязанности. Но в Англии в теории и на практике повинность неразрывно связана была с привилегией. На Руси же между тем и другим не было связи. Среди крестьян не было подходящих кандидатов на должности по самоуправлению, или же правительство не хотело их найти. Так эта выборная должность стала привилегией служилых людей в том смысле, что крестьяне должны были выбирать кандидатов на должности из этого класса людей. На их же долю оставались только тяжелые обязанности. Однако и сами служилые люди скоро почувствовали, что и их положение незавидно. Им недоставало самого существенного – независимости. Здесь перед нами вскрывается характерная черта московской политики; мы видим если не единственный, то, по крайней мере, главный мотив преобразований Ивана Четвертого. Целью их меньше всего было усиление централизации. Без сомнения, эти попытки реформы имели совершенно противоположную тенденцию.
Здесь рельефно выступают роль и фикции внешних приемов московской политики. Реформа имела только один прочный результат: она способствовала разложению тех независимых элементов, которые еще существовали в Московском государстве. Политическая программа Ивана ставила своей задачей централизацию власти. Но осуществление ее встречало препятствие в лице владетелей наследственных вотчин. Они еще пользовались широкими правами и полнотой власти на своих землях. Молодой царь решил покончить с этими остатками прошлого времени. Средством для этого и явилась новая правительственная система, объединявшая разнородные элементы. Ее действия он сам направлял полновластной рукой хозяина. На Западе централизация опиралась на освобождавшиеся зависимые классы. Старые феодальные формы разрушались, и уничтожался местный партикуляризм. На Руси классовых делений не существовало; город, монастырь, деревня со своим владельцем, уезд, населенный свободными крестьянами, представляли ряд не связанных друг с другом общими интересами мирков. Государственная власть делала попытку искусственно создать отсутствующие элементы. Они образовали местные общины, между которыми распределяли повинности. Но указы бессильны создать подлинную жизнь. Задуманная реформа оказалась мертворожденной. Впрочем, она имела значение в том смысле, что уничтожила следы старого и подготовила торжество нового порядка, при котором совершилось всеобщее порабощение.
Судебник 1550 года с большой осторожностью касается вопроса о праве собственности на землю. Во всяком случае законодатель становился в оппозицию к передовым течениям того времени. Консервативные элементы могли быть удовлетворены его мероприятиями. Обычай, закреплявший право собственности на землю, приобретал теперь силу закона и получал некоторую устойчивость. Он признавал право выкупа наследственных владений, то есть продавец или, за его отсутствием, родственники могли во всякое время вернуть себе отчужденную недвижимость, возвратив купившему стоимость его. Правда, действие этого закона было ограничено сорокалетним сроком со времени его издания, и воспользоваться правом выкупа могли лишь только ближайшие родственники, но все же законодатель укреплял один из самых ненавистных пережитков, препятствовавших свободе обмена и экономическому развитию.
В другом пункте, затронутом законодательством Ивана Грозного, сталкивались два противоположных принципа и два враждовавших между собой общественных элемента. И здесь Ивану пришлось совершить отступление. Мы знаем, какие источники рабства на Руси устанавливали обычай и Судебник 1497 года. В Судебнике 1550 года число их было несколько ограничено тем, что признавались свободными дети, рожденные до перехода родителей их в холопы, родителям запрещалось продавать в рабство детей, рожденных ими в свободном состоянии. Договоры о переходе в холопы должны были представляться на рассмотрение высшим должностным лицам и притом только в таких городах, как Москва, Новгород, Псков. Но вместе с тем мы встречаем в том же новом Судебнике постановления иного характера. Так, разрешалось крестьянину оставить занимаемый им земельный участок во всякое время года в том случае, если он желал отказаться от свободы и продавал себя в холопы. С другой стороны, увеличивалась плата за пожилое. Таким образом, новый закон сильнее затягивал на шее крестьян петлю, и без того душившую уже их.
В этом последнем мероприятии личные склонности государя, без сомнения, не играли никакой роли. Целый ряд предложений, приготовленных от его имени для Собора, свидетельствует об ином настроении царя. Но тот, кто впоследствии издевался над Баторием, терпевшим ограничение своей власти, не решился на этот раз воспользоваться своим всемогуществом. Он был еще слишком молод и мало уверен в своих идеях и намерениях.
В области гражданского права новый Судебник оставил неприкосновенным порядок наследования. Только в 1562 году было сделано значительное изменение, упрочившее торжество политической программы, о характере которой я уже говорил раньше: за отсутствием наследников мужского поколения княжеские и боярские наследственные вотчины переходили к государству, если о них не было сделано завещательного распоряжения. Спустя десять лет право наследования было сохранено только по отношению к жалованным вотчинам, о которых в жалованной грамоте было сказано, что они даются во владение получившему лицу и его роду. Притом право наследования могли осуществлять только прямые потомки, а боковые – лишь до второй степени родства.
Судебник 1550 года, как и 1497 года, главным образом касался вопросов судопроизводства. Но он выгодно отличался от прежнего кодекса. В нем рассматривались меры упорядочения судебного разбирательства, полагались строгие наказания недобросовестным судьям, осуждалось ябедничество, закреплялись известные правила применения пыток и судебных поединков. В нем ничего не оставлено без внимания. В этой специальной области было сделано все, чтобы исправить глубоко укоренившиеся недостатки судопроизводства. Кроме того, в этом Судебнике были затронуты факты другого порядка, и это было важным нововведением: в нем устанавливалось наказание за бесчестие, различались и степени его. Но в целом Судебник был проникнут духом консерватизма. Иван стоял лицом к лицу с торжествовавшей армией своих непокорных бояр. Они все еще сохраняли все свои преимущества, все права, привилегии и по-прежнему злоупотребляли ими.
Однако Ивашка Пересветов говорил не попусту. В том же 1550 году Иван сделал решительный шаг по тому единственному пути, который он мог выбрать. Он начал борьбу, в которой шансы на победу были на его стороне. Он попытался примирить необходимую реформу со старой правительственной системой, которую нельзя было уничтожить. 10 октября был издан указ, реорганизовавший высший класс служилых людей.