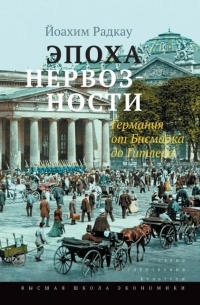Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Неврастения и пол
Каким было отношение к женщине в дискурсе нервов? Известнейший неврологический труд на итальянском языке, «Нервный век» Паоло
Мантегаццы (1887), начинался с описания двух типичных невротиков мужского и женского пола. Оба образа карикатурны, их имена – Тито Нервозетти и Нервина Конвульси. Но если мужчина описан с юмором, то женщина – скорее злобно. Тито Нервозетти, высокопоставленный банковский служащий с чертами ипохондрика, подвержен маниакально-депрессивным сменам настроения, однако все же сохраняет работоспособность и каждый свой нервный трудодень заканчивает яичным пуншем и пребывает в отличном настроении. Ярко выраженная истеричка Нервина Конвульси, в отличие от Тито, – божеское наказание для окружающих. Уже до обеда она успевает 10 раз упасть в обморок, чтобы вскоре очнуться, и половину дня занята тем, что постоянно что-то ест и сразу же извергает съеденное обратно. В сегодняшних терминах – случай нервной булемии. Ни Тито, ни Нервина не похожи на то, что понималось под неврастениками в США и в германоязычном пространстве. Еще Бирд полагал, что романские католические народы не знакомы с неврастенией как массовым явлением, и Мантегацца, объявивший себя не только в высшей степени итальянцем (Italianissimo), но и невротичным ипохондриком, в итоге вынужден с ним согласиться (см. примеч. 73).
Своим отношением к женщине книга флорентинца резко отличается от аналогичных американских и немецких трудов. Невротичная американка Бирда столь же прилежна, сколь и привлекательна. Несколько менее благосклонно, по контрасту к американке, Бирд рисует портрет индианки. В общем и целом можно сказать, что чем ближе литература о нервах подходит к жанру фельетона, тем более она склонна к штампам и клише. Интересно сравнить с книгой Мантегаццы брошюру о «нервной женщине» берлинского «целителя душ» Альберта Молля, владельца респектабельной практики на Курфюрстендамм. Молль тоже пишет в несколько развязном тоне, привлекая читателя сомнительными остротами – например, описывая ипохондричную даму, жалеющую о том, что «нет еще пока специалиста по четвертому пальцу правой ноги». Однако вместе с тем он решительно выступает против клише а ля Мантегацца и настаивает на том, что типичными являются совсем иные формы женской нервозности:
«Бытует мнение, что есть лишь один типаж нервной женщины – кокетливая, капризная, избалованная, которой целый день нечем заняться, кроме как раздражать мужа и домочадцев. […] Такой типаж действительно существует, но он не самый частый. Есть тысячи нервных женщин, на которых реже обращают внимание именно потому, что они не так назойливо попадают в поле зрения общественного внимания. […] Они остаются в домашней тиши и терпеливо несут свои нервные расстройства, будь то мигрень или что-то иное, это лучшие жены и матери, каких только можно себе представить».
Молль вовсе не предлагает идеал домохозяйки и матери как лучшее средство против нервозности. Напротив, он критикует популярную манеру использовать нервозность как аргумент против женского образования: «Если у студенток и вправду нередко приходится наблюдать нервные или подобные им явления, то не думаю, что в этом виноваты занятия наукой» (см. примеч. 74).
Мантегацца воспевает женщин прошлого, которые – из правильно понятого эгоизма – оставались дома, не получали высшего образования и не курили: «воздержанность и невежество» этих женщин были «как свежие луга», где мужчина «отдыхал от всякой нервозности». Теодор Фонтане, досконально изучивший книгу Монтегаццы, на полях пишет: «Зато они были невероятно скучны и бранились еще больше и глупее теперешнего». Леопольд Лёвенфельд в 1894 году подчеркнул, что именно воспитание, нацеленное на то, чтобы сделать из девочки «желанный объект для женитьбы», готовит почву для «неврастении и истерии» (см. примеч. 75). В таком воспитании было заложено опасное противоречие – с одной стороны, девочку-подростка полностью фиксировали на отношениях с противоположным полом, а с другой – подавляли проявления сексуальности.
Альберт Эйленбург в той же статье, в которой он призывал «традиционную солнечную, зигфридовскую натуру» немцев противостоять нервозности эпохи, назвал «расширение прав женщин» отличным средством от женской нервозности. Не вполне свободно от стандартных клише эссе Эйленбурга о «нервной берлинке» (1910). Но если он пишет, что о «нервной супруге и хозяйке можно написать тома» и что «кухонное бешенство» как профессиональная болезнь давно уже вошло в анналы невропатологии, то понятно, что и для него неврастения – это не повод оставить женщину дома, у плиты. Женщинам, как и мужчинам, он рекомендует в качестве лекарства спорт. В принципе, на женские нервы распространяются те же законы, что и на мужские. На рубеже веков еще спорили о том, полезен ли женщинам велосипед, который в то время рекомендовали более крепким неврастеникам. Правда, уже в 1898 году
Молль заверял, что нельзя не признать «благотворное действие велосипеда на нервных женщин», даже если у некоторых этот новый вид спорта вызывает сексуальное возбуждение (см. примеч. 76).
Интерес к психическим расстройствам с точки зрения истории женщины обычно концентрируется на истерии – классическом психосоматическом женском недуге. Поэтому, как пишет Марк С. Микале, тема истерии испытала «исследовательский взрыв» и стала «безнадежно модной» (см. примеч. 77). Истерия позволяет подойти вплотную и к неврастении, так как в конце XIX века эти расстройства соседствовали друг с другом. Некоторые авторы писали на обе темы. Подобно «раздражительной слабости», истерия также часто проявлялась в загадочном сочетании бесчувственности и сверхчувствительности, так что некоторым авторам было нелегко провести черту между обеими болезнями.
Исторические рамки истерии несравнимо шире, они простираются до Гиппократа и Платона. Если судить по названию болезни, то локусом расстройства считалась матка. Вопрос о том, оправданно это или нет – и если да, то в каком смысле, – вызывал споры еще в Античности и приводил к самым диким спекуляциям. В XIX веке стремление локализировать болезни вновь привлекло внимание к матке. В 1853 году Ромберг писал в контексте истерии о «предостерегающем зеркале истории», напоминая о быстротечности медицинских теорий (см. примеч. 78).
Казалось бы, истерию с ее тысячелетней историей невозможно увязать с цивилизацией Нового времени. И все же в 1890 году Макс Нордау верил в «чудовищный подъем истерии в наши дни», и многие были с ним согласны. К судорогам – исходному признаку истерии – в XIX веке добавились явления паралича. Если исходить из такой симптоматики, то в XIX веке и начале XX намечается заметная кривая роста и снижения, указывающая на историчность этой болезни. Эдвард Шортер полагает, что истерия приобрела свою драматическую театральность в эпоху, когда на общество можно было произвести впечатление только так и никак иначе; а затем, когда надобность в резкой демонстрации телесных функциональных расстройств исчезла, потому что авторитет в обществе приобрели чисто психические расстройства, она утратила свою драматичность. Однако карьера неврастении доказывает, что и во времена grande Hysterie на общество можно было произвести впечатление менее яркими психосоматическими расстройствами. Если истерия и производила впечатление драматической постановки, то все же не была одним лишь театром (см. примеч. 79).
При изучении истерии связь с историей пола и историей женщины заметна сразу, хотя половая специфика истерии вызывала сомнения еще до XIX века. Столь же отчетливы женоненавистнические подтексты – настолько сильные, что и в начале XX века они болезненно задевали некоторых медиков. Учитывая близкое соседство неврастении с истерией, было бы логично предполагать интерес к неврастении в контексте истории пола. На первый взгляд его не видно, в литературе по нервозности и неврастении вопрос о «мужском» и «женском» характере неврастении серьезно не обсуждается. Если исходить только из этих трудов, то можно вообще забыть вопрос об отношении к полу. Хоть в них и содержится довольно пассажей о мужских и женских качествах, но они не являются центральным пунктом и не обладают теоретической широтой.
Чтобы пойти дальше, нужно сначала прояснить, как часто у женщин диагностировали неврастению. И если диагноз неврастении ставили пациентам обоих полов, то не пробивалась ли дискриминация в самой форме диагноза. Следует также изучить связь между неврастенией и истерией: была ли концепция первой сформулирована в четком отграничении от второй или границы между обеими болезнями оставались размытыми? И была ли неврастения «мужским» аналогом истерии, с помощью которого можно было уберечь мужчин от этого позорного диагноза? В заключение возникает вопрос, помогают ли феномены нервозности и неврастении пролить свет на гендерные отношения. Тогда история нервозности могла бы способствовать тому, чтобы из двух отдельных историй мужчины и женщины, где разорваны реальные связи, сложилась общая история отношений полов.
Кого было больше среди неврастеников – мужчин или женщин? Конечно, точный статистический учет здесь невозможен, это знали прежде, знают и сейчас. Но даже общее впечатление современников не было единым, литература демонстрирует примечательную неуверенность в вопросе, есть ли смысл подчеркивать половую специфику неврастении. Эта неуверенность начинается уже с Бирда. В его опусе о неврастении вперемешку представлены случаи неврастении у мужчин и у женщин, без явного акцента в ту или иную сторону. В книге «Американская нервозность» Бирд связывает столь восхваляемую им привлекательность американских девушек с их нервозностью. В ней он угадывает не одно лишь расстройство, но и проявление таланта, способность к быстрому темпу. «В голове американской девушки мысли едут на скором поезде, в голове ее европейской сестры – на пассажирском» (см. примеч. 80).
Эмиль Дюркгейм полагал, что «неврастенических женщин всегда больше, чем мужчин». Шведский врач Аксель Мунте по опыту своей парижской практики объявлял «судьбой специалиста по нервам» «быть окруженным лейбгвардией нервных дам». Мёбиус, напротив, считал мнение о том, что «нервозность свойственна в основном женскому полу», распространенной ошибкой. В выборке из 300 пациентов-неврастени-ков, составленной в тюрингенской водолечебнице Эльгарсберг, было 68 % мужчин. Среди пациентов Рудольфа фон Хёслина в его неврологической клинике в Мюнхене преобладали мужчины – 73 % из 828 неврастеников. Отто Бинсвангер считал, что «у обоих полов» частота неврастении «примерно одинакова» и критиковал «дурную привычку» «сводить все функциональные нервные расстройства у женщин к удобному собирательному понятию истерии» (см. примеч. 81).
В 1911 году Отто Дорнблют подвел итог: если раньше «неврастению считали болезнью мужчин, а истерию – болезнью женщин», то в настоящее время о такой гендерной специфике «не может быть и речи». Среди «невротиков», лечившихся у Крепелина, было 65 % мужчин, но его преемник, «патриарх психиатрии» Эйген Блейлеробъяснял это тем, что «женщине подобные аномалии меньше мешают в ее привычной деятельности, так что она реже посещает врача, или же ее объявляют истеричкой». Некоторые формы нервозности у женщин, в отличие от мужчин, практически не создают потребности в терапии. В частности, это относится к состояниям тревожности. Как пишет в 1903 году в «Die Zukunft» анонимный автор: «Мужчина, который чего-то боится, нам противен, испуганная женщина скорее привлекательна» (см. примеч. 82). Добропорядочная домохозяйка с услужливым нравом могла позволить себе и частые смены настроения, и сбивчивую речь, и суетливость, и многое другое без риска попасть в поле зрения невролога. Совсем иначе дело обстояло с работницами и горничными. Мы уже видели, что огромный неврологический санаторий Родербиркен был отведен именно для таких женщин, несмотря на то что идея нервных клиник исходно обладала маскулинным характером.
Большинство женщин в отличие от мужчин не могли предложить врачу драматических историй о переутомлении вследствие изнурительного и ответственного труда. Не было в их анамнезах и подробных повествований об онанизме, проблемах с потенцией и прочих жалоб, типичных для мужских историй. Женщины вели себя с врачами-мужчинами гораздо сдержаннее и не вдавались в интимные детали. Вероятно, есть еще одна причина, почему роль женщин в литературе по неврастении не особенно выразительна. Этаже причина отчасти объясняет подспудную пикантность этого литературного жанра. Труды по нервозности приобретают особую красочность и проникновенность благодаря личному опыту самих врачей, а в Германии участвовавшие в дискурсе врачи были сплошь мужчинами, без единого исключения.
С этой точки зрения надо признать, что «нервная» литература по крайней мере подспудно была дискриминационной по отношению к женщине. Правда, если вспомнить близость неврастении к истерии, стереотипы касательно «слабого пола», вспомнить, что дискурс нервов в Германии в начале 1880-х годов начинали такие медики, как Мёбиус и Арндт, имевшие не слишком высокое мнение о женщинах, то можно было бы ожидать куда более сильной дискриминации. «Нервный» дискурс имел собственные линии развития, и в контексте эпохи был далеко не антифеминистским. Скорее наоборот, его участники привлекли внимание к тому, что в реакциях на стресс и трудные ситуации особенной разницы между полами не наблюдается. Если у кого-то и были предрассудки в отношении женщин, то гендерная тематика как раз доказывает, что дискурс этот определялся опытом, исследованиями и наблюдениями, а не идеологией и предубеждениями.
Конечно, представление о слабых женских нервах никуда не исчезло, но оно выглядит скорее как реликт давней традиции. Нейрофизиология Нового времени не знала разницы в силе и слабости между мужскими и женскими нервами. Даже в быту женская слабонервность уже не была общим местом. В романе «Еще один» Фридриха Теодора Фишера женщина, в отличие от мужчины, справляется с «проказами вещей»: «Мой господин, у женщины есть время для борьбы с коварством предмета, она живет в этой борьбе, это ее стихия; мужчина же не может и не должен иметь на то времени». Когда Бисмарк жаловался, что губит свои нервы в придворной борьбе, то в первую очередь подразумевал свой вечный бой против влияния императрицы Августы – супруги Вильгельма II и кронпринцессы Виктории – это были сильные личности, и он их опасался. Карл Май в «психологическом исследовании» о своей первой жене описывает, как «болезненное возбуждение половой сферы» придает женщинам демоническую силу: то, что у мужчин ослабляет нервы, у женщин становится тайной силой. В 1908 году берлинский журнал «Frauen Rundschau» организовал опрос о «городских шумах и женских нервах». Одна женщина упрямо отвечала, что ей не мешают никакие городские шумы, потому что у нее «нет нервов» (см. примеч. 83).
Если медики предпочитали ставить женщинам диагноз «неврастения», то зачастую это открыто объяснялось намерением уберечь женщину от ярлыка истерички и отвечало пожеланиям их пациенток, для которых диагноз «истерия» был оскорбителен. Некоторые неврологи и психиатры под влиянием теории неврастении меняли свою позицию. Крафт-Эбинг, который еще в 1878 году приписывал яичникам центральную роль в развитии у женщин истерии и безумия, в книге о нервозности 1900 года порицал склонность «называть истерией любой общий невроз, обнаруживаемый у женщины и имеющий элементы истеричности». В той же книге он признавался: «У меня сложилось впечатление, что неврастения у женщин встречается лишь на ничтожный процент реже, чем у мужчин». В связи с этим он замечает, что «трудовое переутомление и распутство», играющие важную роль при возникновении неврастении у мужчин, «у женщин почти компенсированы переутомлением в роли домохозяйки и матери». Так что – у женщин имелись также вполне достойные причины для неврастении (см. примеч. 84).
Если верить Тому Лютцу, то в Америке конца XIX – начала XX веков дискурс нервов, несмотря на Бирда, был в высшей степени дискриминационным в отношении пола: причины неврастении у мужчин и женщин описывались совершенно по-разному, и столь же разными были предлагаемые методы терапии – для женщин покой, а для мужчин путешествие верхом по Дикому Западу. Психиатр и невролог Жено Колларитс открыто признавал, что, учитывая важные различия между мужчинами и женщинами, он «априори ожидал, что не только форма неврастении у мужчин и женщин различна», но и «при оказании помощи можно обнаружить различия». Но его исследования не оправдали этих ожиданий. Сначала он предполагал, что «неврастению у женщин могут вызвать менее серьезные обстоятельства». «Однако когда я вспоминаю, как один невротик объяснил последнее ухудшение своей болезни смертью одного из своих кроликов, то я и у женщин не могу найти особенно ничтожных причин». Среди трех типичных случаев, которыми иллюстрирует природу неврастении Август Крамер, – «биржевик», банкир и медсестра. Женщина в этом трио вызывает самую большую симпатию: она являет собой классический пример неврастении, возникшей на почве стремления как можно лучше выполнять свою работу. Ее болезнь не связана ни со слабостью – врожденной или приобретенной, – ни с дурными привычками, а объясняется лишь трудовым переутомлением и травматическими переживаниями:
«Медсестра фройляйн X., 29 лет, работала медсестрой в Китае, когда там начались боксерские волнения; наследственность не отягощена, всегда была здорова, в течение последних недель ей почти ежедневно приходилось переживать ужасающие сцены, всевозможные жестокости, постоянное волнение и беспокойство, затем очень тяжело работать во время подавления восстания. Наконец она вернулась обратно в Германию и начала, поскольку обладала лишь очень малым состоянием и должна была искать себе заработок, готовиться к экзамену на право преподавать в старшей школе, с большим рвением взялась за учебу, работала целыми днями до поздней ночи. В третьем семестре этой работы, которую она не прерывала и на каникулах, начинает портиться сон, […] (по ее словам) если иногда спокойно засыпала, то немедленно просыпалась из-за невыносимо страшных снов. Чувствует себя “вялой и разбитой” в резком контрасте с ее былой энергичностью».
Этой женщине можно было помочь; через восемь недель лечения «былая энергичность и эластичность» вернулись (см. примеч. 85). Сочувственные рассуждения о нервных расстройствах у студенток и работающих по специальности женщин нередко соседствуют с женоненавистничеством и дискриминацией, но у Крамера и речи нет о том, что лучшим средством спасения женских нервов был бы отказ от профессиональной деятельности. Множество невротичных домохозяек доказывали обратное.
Альфред Баумгартен в описании типичных случев неврастении приводит в качестве примера нескольких невротичных женщин, расстройство у которых объясняется преимущественно трудовым переутомлением, однако профессия у этих женщин не идет вразрез с их природой, но, напротив, служит способом самореализации. Баумгартен рассказывает, как в 1866 году одна пациентка, чье состояние слабости было для него поначалу загадкой, побудила его сделать неврастению «предметом особого внимания». Речь шла о женщине 48 лет, за плечами у которой были «очень напряженная профессиональная деятельность» и нервный срыв, случившийся с ней после того, как ей пришлось помогать при рождении своего первого внука, сопровождавшемся многими осложнениями. Примечательно, что даже в этом случае, глубоко взволновавшем его «с личной и профессиональной точки зрения», Баумгартен не заговаривает о том, что женщина несет двойную нагрузку. Подобные нюансы подтверждают, что до 1914 года дискурс нервов оставался в рамках сугубо мужского опыта.
Лишь в США открыто взяла слово женщина-врач, но и она писала так, как будто говорила не о себе, а лишь передавала отчет пациентки. Этой женщиной была невролог Маргарет Кливз, автор изданной в 1910 году «Автобиографии неврастенички». Через тему неврастении она пыталась оспорить гендерную специфику профессиональных ролей. Она хотела также показать, что трудовая терапия хороша и для женщины: именно ее работа дарила ей короткие моменты здоровья. В самом начале автобиографии она подчеркивает, что пол автора здесь роли не играет, потому что «полное истощение высших нервных центров», описанное в книге, у женщины встречается «редко». Американская писательница Шарлотта Паркинс Гилман возмущалась тем, что уважаемый в обществе невропатолог Уэйр Митчелл хотел запретить ей писать, полагая, что подобным мучительным бездействием можно лечить женские нервы (см. примеч. 87).
Напрашивается мысль, что нервные женщины, как и мужчины, имели собственное мнение о том, как их правильно лечить, ведь лечение повседневных недугов все еще находилось в сфере ответственности женщины – недаром популярная медицинская литература обращалась к «женщине как семейному врачу». В истории одной незамужней учительницы, 34 лет, из знатного семейства, направленной в 1908 году на три месяца в Арвайлер, можно прочесть немало поучительного о том, как интересующаяся медициной женщина мечется между официальной медициной и натуропатией и как терапия вписывается в отношения между женщинами. Сама она объясняла свою «нервозность» переутомлением, однако медицинские документы наводят на мысль, что всевозможные терапевтические методы интересовали ее потому, что помогали налаживать тесные контакты с людьми. Врач описывает ее как «высокую, довольно тучную пациентку». В ее биографии, очевидно записанной с ее слов, читаем:
«В школе пациентка демонстрировала успехи. В 17 лет пациентка пришла в женский учительский институт […], где проделала колоссальную работу, потому что хотела сдать выпускной экзамен уже через год. Она часто вставала в четыре утра и очень интенсивно работала. Она сдала экзамен в намеченный срок, однако полагает, что вследствие этого возникли проблемы с нервами. Позже в Англии, потом в Висбадене давала много частных уроков, затем была частной учительницей в Люксембурге, где опять пришлось очень много работать. После этого три четверти года была больна и оставалась дома. Когда наступило некоторое улучшение, она уехала в Париж – 10 месяцев – где у нее было очень хорошее место, причем она одновременно посещала университет и сдала множество экзаменов. Не дав себе отдыха, отправилась в Аахен в женскую высшую школу, где попала в очень тяжелую ситуацию, так как ей были поручены уроки французского языка в трех последних классах. Поняла, что дальше так продолжаться не может. Получила в этом году в августе отпуск и отправилась в Вальдесхайм (водолечебница Кнейпа под Дюссельдорфом), где проделала, по ее словам, “лошадиный курс лечения”. Сейчас страдает бессонницей, головными болями, непоседливостью, общей раздражительностью. […] В последнее время вновь появились боли в малом тазу, от которых ее подруга-натуропат делала ей массаж по методу Туре Брандта. Участились состояния возбуждения, во время которых она много плакала и стонала. […] В настоящее время жалуется на плохой сон и боль в области входа во влагалище. Против последней ее мать делала ей обмазывания глиной, что принесло успех на четыре недели. Консультировалась у бесчисленного множества врачей, мнения которых противоречили одно другому; вряд ли осталось хоть одно средство, которое бы она еще не испробовала».
Письмо ее матери в Арвайлер выдает некоторую ревность к «подруге-натуропату», которая делала пациентке гинекологический массаж – метод, предложенный шведским майором и физиотерапевтом Туре Брандтом, для устранения опущения влагалища и выпадения матки, при котором «палец одной руки, введенный во влагалище или прямую кишку, удерживает массируемый орган в совершенно спокойном положении по отношению к руке внешней – массирующей, подвижной». Мать жаловалась, что ее дочь проявляла «некоторую досаду» против нее, потому что та «была не вполне согласна с врачом-натуропатом, которая теперь выступает в качестве массажистки». Боли внизу живота ослабли, только когда она, мать, «раздобыла свежую хорошую глину» и наложила ее на живот дочери (см. примеч. 88). Соперничество различных дамских компетенций и слияние терапевтических методов с интимными отношениями в столь явной форме – случай непривычный. Однако в общем можно допустить, что у женщин болезнь интенсифицировала отношения между матерью и дочерью. Однако эту сферу медики обычно не принимали во внимание. В остальном история знатной учительницы демонстрирует параллели с историями неврастеников-мужчин из высшего круга: профессиональное честолюбие, склонность к изнурительному труду и удивительную мобильность.
Одна из главных заслуг учения о неврастении состояла в том, что оно уберегло женщин от бессмысленных гинекологических операций, причем именно в то время, когда такая защита была нужна как никогда. В общем операционном ажиотаже, разгоревшемся в конце XIX века вследствие совершенствования хирургических технологий, частота операций на влагалище и на матке также драматически выросла. Взгляд через микроскоп на слизистую оболочку генитальной сферы открыл наблюдателю новый волнующий мир, где кишели микробы, бушевали воспалительные процессы, кисты и ранки. Возникали все новые версии об очагах болезней. Несмотря на то что теория матки как виновницы истерии в 1880-е годы уже утратила популярность, лишь теперь по-настоящему участились операции на матке против «нервных» расстройств. Даже Шарко, оставшийся в истории как великий новатор психической интерпретации, до сих пор видел причину истерии в яичниках и поддерживал операции по их удалению. Конрад Ригер еще в 1900 году жалуется, что, «к примеру, удаление обоих яичников из-за одной лишь “нервозности” не вызывает ни малейших колебаний». «Женщины при этом проявляют истый furor operatorius passivus, врачи же, напротив – furor operatorius activus» (см. примеч. 89).
Само понятие «нервозность» никак не защищало от бессмысленных операций на малом тазу; при желании можно было сконструировать теорию о том, что аномалии генитальной сферы вызывают потрясение всей нервной системы. Однако учение о неврастении было изначально антилокалистическим и несло в себе принципиальный протест против furor operatorius. Именно Мёбиус, которого женщины считают врагом, выступил здесь их защитником. Альберт Молль заключает свою популярную книгу о «нервной женщине» настойчивым предостережением от оперативного вмешательства при лечении неврастении: «Дело дошло уже до полной кастрации женщин, чтобы лечить истерию!» (см. примеч. 90).
Если неврастения четко отграничивалась от истерии, то она более эффективно защищала женщин от бесполезных операций, чем истерия. Но была ли между ними ясная граница? Для Бирда – определенно да, во всяком случае, истерию он понимал как типично женское расстройство. Он подробно рассказывает, как дифференцировать диагнозы истерии и неврастении. Первое различие – отсутствие при неврастении судорог, традиционного признака истерии. При истерии «симптомы острые, интенсивные, яркие, активные», при неврастении они «умеренней, спокойней, пассивней». Шарко, настоящий гроссмейстер grande Hysterie, сделавший сенсацию своими драматическими шоу загипнотизированных истеричек, строго отграничил истерию от вялой неврастении, высоко оценив при этом теорию Бирда. Это не помешало ему предложить понятие «истеро-неврастения», т. е. он признал переходный случай как широко распространенный. Впрочем, в 1890-е годы grande Hysterie Шарко отчасти была разоблачена как продукт врачебного внушения, и истерия, таким образом, утратила часть своей драматичности. А оставшаяся «малая истерия» – без ярко выраженных судорог и оцепенения – уже не так легко отграничивалась от неврастении (см. примеч. 91).
Вплоть до 1880-х годов исследование истерии было делом французской науки, а немцы считали истерию характерным свойством француженок. Лишь с распространением концепта неврастении истерия привлекла к себе интерес и в Германии. До этого понятие «истерия» в немецких научных кругах вызывало недоверие. Психиатр Карл Пельман вспоминал: «Раньше в истерию, как в чулан, относили все, что у представительниц слабого пола было менее похвальным и достойным, и что не встречало серьезного понимания». В повседневном немецком языке понятие «истеричный» также было тогда не особенно распространенным; в анамнезах пациентов члены семьи женского пола очень часто описываются как «нервные» и лишь в отдельных случаях как «истеричные». То, что интерес немцев к неврастении и истерии растет примерно в одно и то же время и отчасти у одних и тех же авторов, говорит о том, что под этими расстройствами исходно понимали разные вещи. Для Мёбиуса истерия была сначала чем-то «совершенно иным» по сравнению с неврастенией, но уже вскоре он убедился в том, что оба расстройства «чрезвычайно часто» встречаются вместе. Молодой Гельпах, который в то время не только писал одну за другой статьи о нервозности, но и выпустил толстую книгу об истерии, утверждал – что граница между ними «столь удивительно четкая», что путаницу между той и другой «ничем нельзя извинить», однако тогда он еще не имел большого практического опыта. В теории эти расстройства различались, но во врачебной практике, напротив, они «необыкновенно часто сопутствовали друг другу» (см. примеч. 92).
Соседство между неврастенией и истерией привлекало к себе внимание еще и потому, что чем сильнее в центр концепта неврастении выдвигалась возбудимость и чем важнее становилась роль воображения, тем более подвижной становилась граница с истерией. Это обстоятельство не обязательно вредило женщинам. Порой удивляешься, что иногда даже приступы ярости и слез, которые так легко было бы признать «истеричными», получали диагноз неврастении. Так, у Отто Бинсвангера читаем: «Я знал высокообразованных женщин с большой степенью самообладания, которые в подобных неврастенических состояниях топали ногами, били об пол тарелки и метались во все стороны, пока не падали на диван в отчаянии, изнеможении и горьких слезах». Бинсвангер вовсе не трактует такое поведение как типично женское, но проводит аналогию с «беспокойной деловитостью» охваченного тревожностью «неврастеничного торговца» (см. примеч. 93). Похоже, что между концепциями истерии и неврастении существовали взаимовлияния, хотя бы подспудно. Сначала истерия уподобляется неврастении и воздействует на идею этого расстройства. Но сегодня, когда в бытовом языке, благодаря своему уничижительному эффекту, сохранилось лишь понятие истерии, оно вобрало в себя и все неприятные стороны прежней неврастении: капризную раздражительность, жалость к себе и пронзительные тирады.
Возможно ли, что «неврастения» была нужна для того, чтобы уберечь мужчин от недостойного диагноза «истерия», и что в этом и состояла ее негласная функция? Вероятно, в отдельных случаях так и было. Отто Бинсвангер приводит пример «священника с чрезвычайно высоким интеллектом», известного «публичными речами на народных собраниях». Он ставит ему диагноз «неврастения», хотя тот страдал судорогами и «почти полной неспособностью двигать нижними конечностями». Освальд Бумке в 1920-е годы ратовал за то, чтобы ограничить диагноз «истерия» совершенно конкретными психогенными телесными реакциями, и приводил следующий аргумент: «Если мы будем […] любую необычную телесную реакцию на сильное душевное потрясение тотчас же трактовать как истеричную, то мы – страшно сказать – поставим диагноз самому Бисмарку, с которым после особо волнительных переговоров иногда случался припадок рыданий» (см. примеч. 94). Как добропорядочный немец, Бисмарк еще мог считаться неврастеником, но никак не истериком.
Урсула Линк-Хеер, ссылаясь на французские источники, утверждает, что «немецкая по-солдатски здоровая нация с ее панцирными телами» никогда не приняла бы «мужскую истерию». Однако она весьма переоценивает реальную силу тех клише, которые культивировались народными националистами. В Англии идея мужской истерии отклика не нашла, но в Германии – вполне. Немецким неврологам и не снилась идея о том, что немецкий мужчина – юный Зигфрид. Уже в 1894 году Лёвенфельд замечает, что представление о специфике пола «в последнее время претерпело огромные изменения»; и разве что тайком не воспрещается предаваться старой вере в то, что истерия – исключительно женская болезнь (см. примеч. 95).
В Бельвю у Бинсвангеров в 1880-е годы диагноз «истерия» встречается почти только у женщин, а «неврастения» преимущественно у мужчин. В 1889 году знатный остзейский сенатор поступает в клинику как неврастеник, а его жена – как истеричка. Однако в 1890 году Роберт Бинсвангер у прусского капитана благородного рода из региона Восточной Эльбы диагностирует истерию, хотя тот записал себя неврастеником. Решающую роль сыграли, вероятно, припадки ярости, которые
Бинсвангер не считал нормальным явлением даже для армейского капитана и которые нарушали идеальную картину неврастенического диагноза. Значительную часть вины Бинсвангер возлагал на супругу капитана: «Очень неблагоприятно влияет на пациента его жена, которая и сама очень нервна, напичкана псевдомедицинскими знаниями, не доверяет врачам и курсам лечения, что чрезвычайно затрудняет работу». В 1887 году в Бельвю находился профессор и тайный советник, принятый туда как морфинист, а вышедший оттуда как истерик. С 1896 по 1901 год в Арвайлере 4 раза проходил курс лечения торговец с берегов Рейна, поначалу демонстрировавший симптомы неврастении, вызванной «кучей работы» и «длительными переездами по железной дороге». Но когда у него при тряске от поезда или велосипеда «бессознательно и невольно» начали происходить выбросы спермы и кала, для врача он превратился в истерика. Решающим критерием выступала при этом анестезия как следствие бессознательного характера этих процессов (см. примеч. 96).
Для врача-невролога было привычным видеть представителей «слабого пола» не только в женщинах, но и в мужчинах. В мужчинах-невра-стениках было не больше героизма, чем в женщинах. Даже те из них, у кого за плечами была впечатляющая профессиональная карьера, отправлялись в клинику испуганными, плаксивыми, нерешительными и сверхчувствительными, подверженными сменам настроения и всяческим колебаниям. Бирд рассказывал про одного политика, страдающего от «нервных симптомов»: «Это был настоящий Геркулес, однако он описывал свою болезнь так, как мы привыкли слышать только от самых слабых, нежных, истеричных женщин». Дюбуа тоже подчеркивал, что крепость нервов ничего общего не имеет с физической силой: «Мужчины, которых буквально распирает физическая сила», могут «выказывать нервозность капризной взбалмошной дамочки». Нервозность сближала оба пола. Мёбиус писал, что нервозность продуцирует «женоподобных мужчин и мужеподобных женщин». В сравнении с неврастенией истерия была более сильным, хотя и более неприятным для окружающих, средством справиться с психическим напряжением. Хирург и философ Карл Шлейх даже подчеркивал «стальную силу воли» истериков (см. примеч. 97).
Схожую гендерную нервозность можно объяснить тем, что внутренний мир мужчины и женщины по сути своей не так различен, как это кажется внешне. Можно также искать причину в том, что нервозность – болезнь заразная, особенно в интимном кругу семейных и партнерских отношений. Но это не объясняет, почему наблюдения такого рода учащаются и накапливаются к концу XIX века, тем более если исходить из того, что при возникновении неврастении существенную роль играли и внешние факторы. Создается впечатление, что волна неврастении – это один из симптомов того, что гендерные роли, а также условия труда и быта мужчины и женщины, которые в XIX веке поначалу развивались в противоположных направлениях, к концу XIX века снова начали сближаться. Это новое сходство возникло не только вследствие того, что женщин поглотил ритм индустриальной эпохи, но и потому, что мужчины стали подвергаться таким нагрузкам, которые традиционно были характерны для женщин. Круглосуточная занятость, вечная спешка, разбросанность внимания, непрестанное ощущение, что «надо сделать то-то и то-то», суета и беготня, необходимость постоянно помнить о нескольких вещах одновременно – все это прежде было характерно для мира женщины. Теперь все чаще осваивать такие условия приходилось мужчинам. Возможно, это отчасти объясняет и то, что большинство классических случаев неврастении описаны у представителей мужского пола, – ведь мужчины были менее привычны к подобному типу стресса, чем женщины (см. примеч. 98).
Общий опыт «нервных» проблем задавал новый стиль диалога полов. Томас Клиффорд Оллбатт, главный авторитет по вопросам неврастении в Англии, уже в 1895 году иронизировал: когда появилась «новая женщина», то оба пола, «соединив свои нервные песнопения, сравнивая симптомы, вместе рассуждая о физиологических проблемах, рука об руку стали мучительно проходить один за другим лечебные курсы» (см. примеч. 99). Дискурс нервов способствовал тому, что гендерные роли сдвинулись и в сознании.
Ассимиляция мужского и женского стресса углубляла взаимопонимание полов. Биография Макса Вебера, написанная его женой Марианной, хоть и не раскрывает тайну чувственной стороны их отношений, но все же демонстрирует примеры такого взаимопонимания через «нервы». Марианна Вебер замечает, что поскольку ее собственные нервы были «перегружены», она могла «полностью вчувствоваться в состояние мужа». Действительно, та мучительная «необходимость разрываться между делами», которая предшествовала психическому срыву Вебера, была хорошо знакома множеству женщин, и у них было больше опыта в преодолении стресса такого типа: расставить в делах приоритеты и сэкономить силы. Эдуард Баумгартен полагает, что болезнь одарила Вебера «свободой неверия в превосходство мужской (более грубой) силы» (см. примеч. 100).
Однако в гендерном отношении «нервный» дискурс шел далеко не мирным путем. «Нервозность» служила партнерам неисчерпаемым материалом для игр и взаимного раздражения. Специальная литература трактует неврастению в основном как индивидуальный феномен, затрагивая социальные аспекты далеко не всегда и то лишь полунамеками, и только в самих историях болезни встречаются эпизоды семейного быта, которые дают понять, что «нервозность» – свойство не только индивидов, но и сложившихся коммуникативных моделей. Отто Бинсвангер отмечал у типичных неврастеников ярко выраженное и доведенное до совершенства умение вывести из равновесия своих близких, а вместе с ним «удивительную, хочется сказать – “демоническую” – радость по поводу того, что теперь именно их можно упрекнуть в потере самообладания». Если невротик мог упрекнуть своего визави: «Что ты так нервничаешь!?» – мяч летел обратно (см. примеч. 101).
Иные мужчины-невротики прибегали к таким трюкам, чтобы превратить свою нервозность в средство власти. Но далеко не все обладали такой способностью, к тому же некоторые женщины знали, как обращаться с мужской нервозностью. Примером служит 53-летний голландский банкир, прибывший в 1902 году в Арвайлер по настоянию своей супруги. Несколькими годами раньше он уже побывал там вместе с супругой, которая успела приобрести кое-какие знания о нервных расстройствах и навыки обхождения с ними в браке. В 1902 году она повторно отправила супруга в Арвайлер, предусмотрительно сопроводив несчастного и диагнозом, и комментариями: «Поскольку муж мой с некоторых пор страдает неврастенией, я бы хотела поместить его в целях оздоровления в Ваше заведение. […] Поскольку нервнобольные, к сожалению, непредсказуемы, я не могу пока назвать Вам точной даты. […] Поскольку муж мой, увы, утверждает, что не болен и не может оставить свое дело, то подвигнуть его на поездку в высшей степени трудно». Однако ей это удалось (см. примеч. 102).
Подобные игры случались и на низших социальных этажах, как, например, в случае рабочего франкфуртской типографии и его жены – хозяйки прачечной. Они поженились в 1910 году после того, как он пригрозил ее «застрелить», если та не выйдет за него замуж, по крайней мере так утверждала женщина. Она также сообщала, что муж ругал и истязал ее, если она просила помочь в прачечной. Однако из истории болезни следует, что он все же оставил работу в типографии и какое-то время проработал с ней вместе в прачечной. Уже в 1911 году по настоянию жены он оказался в закрытом заведении, и явно надолго, поскольку он получил там нелегкий диагноз dementia paranioides. Действительно, он высказывал бредовые идеи. Но с его точки зрения, во всем были виноваты нервы его жены, которую он сам хотел поместить в заведение: «[Он] якобы совершенно здоров. […] Ради своей жены он отказался от места в типографии. […] Он не подходит для прачечной; ему приходилось там работать разносчиком; вообще никогда не отдыхал, должен был изводить себя. […] Уже собирался поместить жену в заведение, поскольку она была в высшей степени нервной. […] Доктору донесли, что я страдаю нервозностью». И далее «со всей обстоятельностью» он рассказывал врачам, «какая нервная» у него жена. Однако ничего не помогло – в состязании, кто быстрее и ловчее обвинит супруга в «сильнейшей нервозности», жена оказалась проворнее (см. примеч. 103).
В 1897 году в Бельвю к Роберту Бинсвангеру поступил профессор-фармацевт, 48 лет. Его дрезденский семейный врач сообщал, что у этого занятого и уважаемого человека «под воздействием периодического алкоголизма и сверхактивной, очень утомительной умственной деятельности […] сформировалась постоянно усиливающаяся неврастения», выражавшаяся в бессоннице, раздражительности, беспокойстве и снижении трудоспособности. Следовало даже опасаться, что за алкоголизмом фармацевта «могут скрываться начальные явления развивающегося паралича мозга». Однако в конце XIX века на Боденском озере еще не так трагично воспринимали то, что в Дрездене уже считали настоящим алкоголизмом. Когда жена профессора чуть ли не умоляла оставить ее мужа в Бельвю и держать его там как можно дольше, ей ответили: «[…] покуда его нервная система находится в хорошем состоянии, как сегодня, нужно надеяться, что у него достанет энергии, чтобы сохранить трезвость». Жена не отставала: «К сожалению, мы совершенно точно знаем, что дома его теперешняя энергия очень скоро его покинет» (см. примеч. 104). Это было то переломное время, когда одни еще считали алкоголизм вполне здоровым явлением, а другие – чумой для народа. Женщины, объединившись с фракцией врачей, в собственных интересах способствовали победе второй точки зрения.
Американский критик психотерапии Джеффри М. Мэссон нашел в историях болезней Бельвю случай 19-летней Жюли де ля Рош, которую после нескольких попыток побега из семьи – один раз с подругой, другой с другом – в 1896 году отец доставил в лечебницу. Решение это было принято после того, как домашний доктор высказал опасение, что девушка близится к «состоянию moral insanity». В Бельвю ей для начала была предписана неделя постельного покоя, после чего она сбежала и во всеуслышание нажаловалась в прессе на заведение. Однако этот случай далеко не так типичен, каким представляет его Мэссон. Вопреки его утверждению, диагноз moral insanity не входил в вокабуляр Бинсвангера. Утверждая, будто любой психиатр в то время неизбежно увидел бы у такой девушки «моральный дефект», Мэссон лишь демонстрирует незнание истории немецкой психиатрии (см. примеч. 105). Сексуальные потребности и стремление освободиться от оков строгой семьи, в том числе у молодой девушки, ни в коем случае не считались в неврологической литературе признаком приближающегося безумия. Скорее наоборот, одной из предпосылок массового учреждения нервных клиник стало признание того, что жизнь в определенных семьях может быть невыносима для чувствительного человека. Нервные клиники вовсе не служили средством борьбы с эмансипацией. Более того – совсем не редко именно женщины способствовали направлению в клиники пациентов-мужчин. Очевидно, что многих женщин эти заведения хоть и на короткий срок, но избавляли от совместной жизни с алкоголиками и дебоширами.
В 1921–1922 годах пациентом Арвайлера на 1,5 года стал горный инженер, 63 лет. Врачебный отчет характеризует его как «типичного неврастеника». Поначалу он попал в закрытое отделение, из которого писал брату, что «целиком и полностью заперт здесь по настоянию жены». Брат сообщил врачу, что этот слабонервный мужчина, «дрожа, валялся на коленях» перед своей женой. «Никогда и никому он этого не говорил. Мне это сказала в прошлое воскресенье сама его жена. Она и сама, очевидно, весьма нервная, но значительно превосходит его энергичностью и силой воли. И сказала даже, что она его ударила!» Муж без конца мучается из-за былых алкогольных эскапад, хотя пил всегда только пиво. Он присоединился к одному борцу с алкоголизмом, бывшему пьянице, тот его сильно запугал, и теперь он в ужасе от того, что народ прежде не был просвещен о вреде алкоголя. Видно, как даже среди горняков, хорошо знавших, что такое жажда, потребление пива теряло свое доброе имя и чистую совесть. Инженер ощущал боль не через нервы, а скорее сердцем, и переживание боли имело у него профессиональный оттенок, он постоянно использовал образы вроде «как будто кто-то глубоким буром вонзается в сердце». Однако корни его нервного расстройства уходили не в профессию горняка и не в мировую войну. Очевидно, что его проклятием с самого начала стал брак. Уже в 1886 году, непосредственно после женитьбы, у него начались проблемы с желудком, и он отправился отдохнуть к родителям. В присутствии жены у него случались припадки «буйства», когда он опрокидывал столы и стулья, чтобы потом на коленях вымаливать прощение (см. примеч. 106).
Семья как источник нервозности – в целом литература обращалась к этой теме мимоходом и очень сдержанно, однако ни в коем случае не игнорировала ее. Крамер описывал, как «нервные» члены семьи взвинчивали друг друга «до крайнего раздражения». На приеме у врача, еще до того, как пациент успевал произнести хоть слово, часто можно было по поведению мужчины сделать вывод о нервозности его жены, и наоборот. Так, он описал не только «мужчину, с виду здорового как бык», которого превратила в невротика истеричная жена, но и униженную «задавленную рабыню», за которой распознается «раздражительный, склонный к насилию, эгоцентричный, со скрытой нервозностью муж». Крамеру известны случаи как устойчивого разделения ролей между активным и пассивным невротиком, так и случаи переменной индукции, которая продуцирует что-то вроде нервных противотоков. По контрасту с этим, учение об истерии разрабатывает устойчивый ролевой сценарий. Для Уэйра Митчелла истеричная барышня – это «вампир, высасывающий кровь у здоровых людей вокруг».
Не все авторы признают агрессивный тип неврастеника. Дрезденский невропатолог Отто Шер считает, что типичный неврастеник становится для своего социального окружения «осликом для перевозки грузов», чей изнурительный труд так низко ценится, «что нередко ослику достаются еще и подбадривающие тычки в форме скрытых намеков, усмешек и т. д., так что он считает вполне в порядке вещей просто брести дальше и терпеть, и приноравливаться к еще большему грузу». Поскольку семейной терапии культура рубежа веков еще не знала (хотя надо сказать, что некоторые семейные пары отправлялись в нервную клинику вместе), то спасения приходилось искать лишь во временной изоляции от семьи. Густав Ашаффенбург не считал преувеличением мнение, что «разлука с домочадцами – это уже половина лечения». Врач из Кройцлингена, познакомившись с семьей одного из своих пациентов, банкира из Гамбурга, в 1920 году пишет Людвигу Бинсвангеру, что этому человеку следовало бы «срочно оставить своих домашних»: «в адском котле его дома […] атмосфера настолько сгустилась от всякого рода интриг и домогательств, как не бывало даже в придворных кругах эпохи рококо», и его выздоровлению грозят серьезные проблемы (см. примеч. 107).
Август Шатлен, многолетний директор крупной психиатрической клиники в швейцарском местечке Префаржье, опубликовал уже в возрасте 73 лет (1911) труд «Гигиена нервной системы», в котором он советовал нервным парам проводить каникулы отдельно друг от друга. Кроме того, он, что необычно для того времени, заговаривает о нервном потенциале в отношениях между матерью и дочерью, что для многих мужчин оставалось скрыто: «Я видел дочерей, которые жили только с матерью и доходили до чрезвычайной неврастении. “Мое дорогое дитя, – говорит мать перед смертью, – что станется с ним, когда меня не будет?” […] И скорбящая дочь очень скоро избавляется от своей тяжелой неврастении. Так часто бывает у женщин» (см. примеч. 108).
Смерть ближнего как терапия – подобные мысли по большей части оставались табу, кроме желания отцеубийства, обнаруженного Фрейдом в подсознании. Однако тогда же некоторые врачи уже понимали, что не только отношения с отцом, но и отношения с матерью могут быть источником нервозности – в том числе и у мужчин. Юристу 26 лет, в 1910 году вторично прибывшему в Кройцлинген (в 1907 году он уже лечился там три месяца), Роберт Бинсвангер с особым тщанием и детальностью ставит диагноз «неврастения», чтобы предохранить пациента от подозрения в dementia praecox:
«При первом собеседовании в присутствии матери и врача пациент ведет себя в высшей степени по-детски. Это […] позволяет заподозрить dementia praecox. Однако такое предположение не подтвердилось. Диагноз указывает на проявившуюся в детском возрасте неврастению с навязчивыми идеями и навязчивыми движениями (мания аккуратности и чистоплотности). […] В умственном отношении с пациентом все в порядке. Как бы он ни был избалован, упрям и одержим нозофобическими идеями, интеллект его и благоразумие постоянно одерживают верх. […] Когда пациент уехал от нас в 1907 году, мы нажали на все рычаги, чтобы избавить его от настойчивой материнской опеки» (см. примеч. 109).
Нередко в историях болезни между строк просматривается нервный потенциал в отношениях между отцом и сыном. Возможно, нервозность в семье создавал раздраженный отец, тиранивший своих сыновей – может быть, именно это скрывалось за многочисленными указаниями неврастеников на «нервного» отца? Но если отец был ярко выраженный тиран или патриарх, об этом так и говорилось – в понятие «нервный» такие проявления не входили. А если буйного отца относили к категории «нервный», это означало, что его буйства не воспринимались всерьез. Правда, это вовсе не делало их более сносными. Гротьян с особой неприязнью вспоминал, что его отец, в общем и целом стремившийся «гуманизировать педагогику розги», в «нервной горячке» его все же лупил. Страдания под гнетом отцовского авторитета, напротив, обнаруживаются реже, чем можно было бы ожидать из расхожих представлений об обычаях кайзеровской Германии. Вместо этого обнаруживается совсем иное. Прусский профессор юриспруденции в разговоре с Робертом Бинсвангером в 1866 году озадачен тем, что его семилетний сын просит на все разрешение: «Дома Эрих вечно мучил нас вопросами, а можно ли ему то, а можно ли ему это». Очевидно, к зрелому возрасту сын превратился в комок нервов, совершенно неспособный к профессиональной деятельности. Если посмотреть, как отец анализирует состояние нервов своего сына, видно, что уже в 1880-е годы учения о нервах вышли за пределы медицины и инфицировали семейные отношения, а неврологический подход оттеснил морализаторство в отношениях отцов и детей на задний план (см. примеч. 110).
Среди документов Бельвю обнаруживается история болезни 26-летнего кандидата филологических наук, который с энциклопедической полнотой представляет себя воплощением неврастении. Его распирает от обилия симптомов, и списку их нет конца:
«Невроз отсутствия желаний, утрата энергии, заторможенность мыслей, навязчивые идеи, меланхолия, ипохондрия, невозможность концентрации мыслей, состояния истощенности, чувство страха, ощущение оцепенения, апатия, летаргия, постоянные навязчивые размышления (дополнение: бессонница), недоверие (расстроенные состояния), мысли о самоубийстве, неравные (sic!) сексуальные побуждения, сентиментальность, внутреннее беспокойство и неуютность, отсутствие темперамента, чувствительность, боязнь людей (чувство отвращения), смущение, нетерпение, отсутствие юмора (скука), нерешительность, т. н. капризность […], безнадежность, уныние, недовольство […] (и т. д.)».
Такое нанизывание симптомов говорит не только о том, что пациент вел настоящий дневник своей неврастении, но и о знакомстве со специальной литературой. В тексте этого отпрыска мюнхенской литературной богемы бросается в глаза, что при всей его сверхточности сексуальный мотив упоминается лишь единожды и мимоходом. Может, поток слов лишь пытается отвлечь от самого больного места?
Подозрение усиливается, если вспомнить про отца пациента, сыгравшего, очевидно, значимую роль в этом случае неврастении. Его отец – Георг Хирт, редактор журнала «Jugend», основанного в 1895 году и уже к 1897 году «завоевавшему весь земной шар». Хирт вовсе не был репрессивным отцом из «правильного» бюргерского семейства. Совсем наоборот – это был пророк сексуальной свободы, правда, того сорта, который возводит сексуальное счастье в ранг обязательной программы. Демонстративно сильная и радостная натура с широкой ухмылкой и сверкающим взглядом, он обожествлял «райскую силу фаллоса» и издевался над теми мужчинами, которые из-за преждевременного семяизвержения лишали женщину радости оргазма. Онанизм он не считал чем-то ужасным, но презирал его как «обезьянье искусство». Был склонен к бахвальству своими сексуальными достижениями и считал важным демонстрировать потенцию до старости: «Там, где деды могут продемонстрировать своим внукам крепкие члены, дегенерация трусливо уползает в мышиную нору». Как и его сын, был доподлинно и детально знаком с учением о неврастении. Сын характеризовал своего отца как «экзальтированного невротика» и полагал, что унаследовал собственную нервозность от родителей (см. примеч. 111). Этот поучительный случай неврастении вытекает из таких отношений между отцом и сыном, какие по общим представлениям свойственны скорее не кайзеровской Германии, но современной. Он же подводит к сексуальной проблеме неврастении, и здесь история нервов позволяет взглянуть на довоенное общество с весьма непривычной стороны.