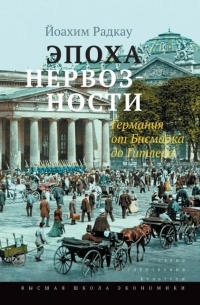Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Лечение нервов как утопия и как техническая сеть: нервозность и неврологические клиники
Когда Карл Пельман (1838–1916), старейшина рейнской психиатрии, в ноябре 1900 года на выступлении Нижнерейнской ассоциации охраны общественного здоровья призвал к учреждению государственных народных нервных клиник, он сослался на то, что в Германской империи уже действует 500 частных заведений подобного рода. Они покрыли собой «каждую живописную точку нашего Отечества» и из года в год «забиты больными». Это не удивительно – ведь «кто же сегодня не неврастеник»? (См. примеч. 49.)
Рост числа лечебниц стал материальным и организационным субстратом для дискурса нервов. Теперь этот дискурс развивался уже не в вакууме, но легитимировал учреждение организаций и вложение денег – или же критиковал эти процессы. Для состоятельных и обладающих досугом пациентов множество расположенных в прекрасных местах неврологических клиник было шансом превратить свою нервозность в форму жизни – богатую путешествиями, пребыванием на курортах и экспериментами на собственном теле и духе, дававших неисчерпаемый материал для бесед с товарищами по несчастью. Возникали сетевые коммуникативные структуры, где невротики получали рекомендации от врачей и друг от друга и где «нервозность» сгущалась до массового феномена.
Бум неврологических санаториев, каким бы он ни казался актуальным и естественным, в свете учения о неврастении вызывает вопросы. Это учение не представило целостной картины заболевания, которая предлагала бы подходящий объект для поддающихся стандартизации методов. Скорее наоборот, почти все авторы сходились во мнении, что неврастения охватывала широкий спектр индивидуальных вариаций и требовала индивидуального консультирования, которое куда больше подошло бы семейному доктору, знающему и наблюдающему больного многие годы. Поэтому даже доктор – сотрудник клиники, писал, что «клиника» теряет «характер собственно нервной лечебницы, если превышает определенный размер». Карл Хилти предупреждал, что «так называемые заведения для нервнобольных», где неврастеники постоянно пребывают в среде себе подобных и к тому же часто получают лечение «возбуждающими методами», подчас «скорее вредны, чем полезны». Один русский студент, 24 лет, в 1904 году отправился в Арвайлер как неврастеник, но, приехав туда, окончательно потерял самообладание, что тамошний врач, учитывая обстоятельства, счел «естественным» (см. примеч. 50).
Прообразом неврологических клиник, без всякого сомнения, хотя об этом и не любили говорить, были частные психиатрические приюты для состоятельных пациентов. Такой путь прошли и Бельвю Бинсвангера, и клиника Эренвалля. Тип заведений за пределами города сформировался в поисках места, где разместить душевнобольных. Принцип изоляции был заимствован из опыта обращения с чумой. В XIX веке нашлось еще одно обоснование – терапевтическая ценность покоя. «Людей обуяла идея содействовать душевному исцелению с помощью сельской тишины и уединения», – иронизировал Альфред Хохе. Изоляция действовала не только на пациентов, но и на врачей, воспитывая в них черты чудака-одиночки и изгоя (см. примеч. 51). На рубеже веков в неврологических клиниках на неврастениках опробовали некоторые методы терапии, оказавшиеся бесполезными для душевнобольных.
Буму неврологических санаториев предшествовал бум строительства психиатрических больниц. Не менее важную роль сыграла и волна учреждения легочных клиник. Конец XIX века вообще был отмечен массовым учреждением разного рода лечебниц. Один из сторонников этого явления, санитарный советник Перетти из Графенберга, в 1904 году объявил:
«Мы живем в эру лечебниц. Вряд ли найдется какое-либо не острое заболевание, для которого не предложили бы клинику. Под животворным золотым дождем пышнее всех расцвели легочные лечебницы, и уже есть опасения, что они зарастут сорняками, вместо того чтобы приносить желаемые плоды. Уже подумывают о том, чтобы использовать лечебницы отчасти и для неизлечимых больных, поскольку больные с излечимыми формами туберкулеза не могут их заполнить. Поступали даже сообщения о том, чтобы место в легочной лечебнице наследовали неимущие нервнобольные» (см. примеч. 52).
Перетти дает понять, что учреждение лечебниц для легочных больных развило собственную динамику, уже не связанную с непосредственной потребностью. Бум легочных санаториев в конце XIX века кажется не менее странным, чем конъюнктура неврологических клиник, ведь если туберкулез имел бактериальную природу, то лечение солнцем и воздухом, собственно, особенного смысла не имело. Волна учреждения неврологических, легочных и психиатрических клиник объясняется в первую очередь не требованиями медицины, а потребностями общества. Обществу было важно, чтобы в этих сферах происходило что-то ощутимое и достойное, тем более что в этом вопросе сложился широкий политический консенсус.
Многие сторонники нервных клиник воспринимали легочные санатории в качестве соперников. Председатель социал-демократической партии Август Бебель в 1899 году выступил, напротив, за легочные клиники и против нервных. Хотя в своей популярной работе «Женщина и социализм» он называет нервозность «бичом нашей эпохи», однако лечить это недомогание советует не с помощью врача, а с помощью социализма. «Народные неврологические клиники» он в то время не считал по-настоящему народными. С легочными санаториями, однако, все было иначе. Выступая в рейхстаге против предложений по флоту от 1899 года, он противопоставил им гигантский проект: «Возьмите 600 тысяч бедных туберкулезных больных, постройте для них две тысячи заведений […] и вы сделаете для культуры и счастья людей бесконечно больше, чем всеми вашими предложениями по флоту». К прямой атаке на флот он добавил и боковой удар на «врачевателей душ» (как раз тогда учреждение лечебницы «Дом Шёнов» сделало нервные лечебницы своего рода делом большой политики): «Для врачевателей душ денег у вас полно, а для врачевателей тел нет ни гроша». Это было сильным преувеличением и показывает, что для Бебеля бум неврологических клиник был не более чем модой для богатых (см. примеч. 53).
Когда нервы императрицы Августы Виктории осенью 1900 года пришли в «скверное состояние», Вильгельм II испугался, что ему придется «увидеть, как бедная императрица окончит свои дни в клинике, где лечат холодной водой». Видимо, такое заведение было для кайзера привычным ответом на нервный кризис. Немало заведений из тех, что предлагались публике как «лечебницы для нервнобольных», вышли из водолечебниц. С точки зрения Альберта Молля, «нервная клиника» и «клиника, где лечат холодной водой», – это почти одно и то же, разве что водолечебница имела резервуары для воды. Он смотрел на связь между нервами и водой скорее скептически и говорил, что знавал дам, которые, только попав в такие заведения, становились подлинными ипохондриками или даже морфинистками (см. примеч. 54).
«Ни одна картина болезни не встречается руководителю водолечебницы чаще и в более разнообразных формах, чем картина неврастении», – заверял в 1891 году руководитель висбаденской лечебницы термальных вод Нероталь, ставшей впоследствии санаторием для нервнобольных. Не случайно Ф.К. Мюллер, автор «Справочника по неврастении» (1893), был ведущим врачом водолечебницы. Как раз перед этим он написал учебник по гидротерапии, в котором изложил, что специалист по водолечению очень часто сталкивается с неврастениками. С одной стороны, врачи нуждались в таких медицинских показаниях, при которых водолечение не выглядело бы смехотворным в свете современной науки. С другой – неврастеники сами устремлялись в водолечебницы (см. примеч. 55).
Эдвард Шортер полагает, что волна учреждения нервных клиник объясняется не растущим спросом, а стратегией самих заведений, в первую очередь – водолечебниц. Они оказались в кризисе, поскольку традиционное доверие к целебной силе воды ослабло и поиски новых симптомов и нового дизайна привели к мысли поискать новых пациентов среди нервнобольных. Цитата из Мюллера не дурно подходит под эту теорию. Действительно, многие водолечебницы в конце XIX века превратились или в природные курорты, или в лечебницы для нервнобольных. Между «природой» и «нервами» обнаружилась интимная связь. Однако серьезность кризиса гидротерапии в конце XIX века еще не так очевидна, а неврастения явно не была изобретением гидротерапевтов. Если раздражительную слабонервность серьезно воспринимать как болезнь, то традиционное «плескание в воде» обладало весьма сомнительной ценностью. Врач из богемского Теплице в 1866 году жаловался, что «очень часто» в водолечебницах в отношении неврастеников «нещадно грешили», применяя к столь чувствительным больным «весь тяжелый арсенал» лечения холодной водой (см. примеч. 56).
В цитадели невротиков эволюционировали также многие водные курорты, которые при всей подчеркнутой традиционности и древности своих методов лечения в эру железных дорог и крупных отелей разрослись до невиданных прежде масштабов и активно искали новых пациентов и новые болезни. Серьезные проповедники лечения воздухом и водой с их склонностью к аскетизму видели в самых знаменитых курортах недобросовестных конкурентов, поскольку эти центры имели вполне заслуженную репутацию, что своей привлекательностью они обязаны вовсе не водам, а казино и варьете. В то время как в учении о нервах «Венера и Бахус», так и волнение и риск, обычно подавались в качестве патогенных факторов, тайная философия крупных курортов была обратной и строилась на обаянии возбуждения.
Если искать тайны истории в материальном интересе, можно заподозрить, что бум неврастении – заслуга курортов. Бросается в глаза, что в Германии на рубеже веков феноменальным образом расцвели как неврастения, так и всевозможные «воды», что сулило им взаимную выгоду. Но как часто бывает, простые причинно-следственные связи при ближайшем рассмотрении вызывают сомнения. Даже главный врач расположенного в Таунусе курорта Шлангенбад, который со своим «лесным покоем» пользовался «репутацией замечательно спокойного и умиротворяющего курорта», в своих ежегодных «бальнеологических сообщениях» лишь мимолетно использует новое показание «неврастения». После некоторого промедления, в 1893–1894 годах, курортный врач называет Шлангенбад идеальным приютом для неврастеников. Однако уже в 1897 году он замечает, что «показания для пребывания в Шлангенбаде» изменились, «поскольку теперь меньше встречается тяжелых неврозов, ведь такими пациентами заполнены сейчас лечебницы для нервнобольных и специальные клиники». То есть в конце XIX – начале XX века неврологические клиники отделяются от известных водных курортов и составляют конкуренцию даже «водам для нервных» в Таунусе (см. примеч. 57). Как только к неврастении стали относиться серьезно и увидели в ней новое заболевание, терапевтическая ценность многих «вод» и водолечебниц стала вызывать сомнения. Собственно, курс лечения водой проистекал из старой, родом еще из XVIII века теории, понимавшей слабонервность как вялость, а не как раздражительность, и многие методы с применением воды все еще следовали старой идее раздражения ослабленных нервных волокон. Крафт-Эбинг сообщает, что видел «бесконечно много дурного» в водолечебницах, где не вдавались в своеобразную природу неврастеника. Самое скверное – слишком горячие термальные ванны, в которых «неврастения, а именно наиболее тяжелые ее формы, просто взращивается». Уже Бисмарк полагал, что его государственный министр Бернгард фон Бюлов, отец будущего рейхсканцлера, умер от курса лечения в Бадгаштайне (1879), поскольку тот не годился для его «перетруженных нервов». Гаштайнские воды были особенно горячими и радиоактивными. Фридрих фон Гольштейн, будущий «серый кардинал» Министерства иностранных дел, в 1869 году в Хомбурге говорил, что «вода» действует ему на нервы. Множество историй неврастеников вошли в длинный ряд бальнеологических «страшилок», уже сотню лет образующих теневую сторону истории водолечения (см. примеч. 58).
Около 1895 года инициативы по учреждению государственных неврологических клиник «с удивительной скоростью» объединились в массовое движение. Ключевую роль в этом процессе сыграл Пауль Мёбиус, которому удалось «своим настойчивым призывом пробудить значительное число громких голосов и соединить их в хор, который нельзя было не услышать». Чтобы подчеркнуть общественный интерес, он сослался на образцовых госслужащих: «Представим себе, что какой-либо учитель или чиновник перетрудился на ниве общего блага. Если ему повезет, то он сделается душевнобольным (sic!), и тогда о нем позаботятся, его поместят в прекрасное заведение, построенное за миллионы. Но если он попадет в категорию нервнобольных, у которых хворает ум, но не дух, то увидите, где он окажется». На технические возможности лечебниц Мёбиус не ссылался: для его психического миропонимания технизированная терапия нервных заболеваний была сущим кошмаром. Всевозможными ваннами и обертываниями, электричеством и массажем – всем тем, чем заполняли время на курортах, – у невротика только и развивали чувство, «что он по-настоящему болен и не способен к деятельности». Мёбиусу виделось совсем другое – связь между медитативным покоем и раздумчивым физическим трудом в сельских поселениях-колониях. В одном из своих предложений для расположенной в Швейцарии колонии Фридау (1903) он создал проект идиллического феодального мира, где лечебница становится социальной утопией:
«За образец возьмем крупное поместье – такое, что являет собой отдельный маленький мир и само обеспечивает значительную часть своих потребностей. Как в таком поместье господский дом образует центральный пункт, так и здесь лечебница образует центр. […] Как там деревня примыкает к господскому дому, так и здесь маленькие сельские дома должны окружать лечебницу как места проживания выздоравливающих больных, гостей курорта, которые, собственно, не являются больными, и вступивших в колонию здоровых людей».
По Мёбиусу, колония должна «в известной степени стать преображенной версией сельской жизни». Исполненный презрения к обычному тогда курортному стилю, Мёбиус рисует скорее монастырский идеал: чисто мужское общество, сообщество спокойных индивидуалистов, без секса, без алкоголя, с трудом в качестве главного средства разнообразия. С отвращением он ссылается на заведения, в которых «перед каждым гостем в обед и вечером стоит бутылка вина». Этими словами Мёбиус мгновенно заслужил аплодисменты Огюста Фореля, заверявшего, что «постоянно борется с так называемыми заведениями для невротиков, которые являются ничем иным, как дорогими отелями для пьяниц». Мёбиус, чьи семейные корни восходили к Мартину Лютеру, совершенно открыто признавал, что именно «мысль о монастырях» была его путеводной нитью. «Действительно, если вообразить себе идею монастыря, то замечаешь, что он представляет собой идеальную лечебницу для нервнобольных». Бедность освобождает от всех забот, связанных с имуществом, послушание снимает «любую ответственность» и «в том же смысле благотворно» воздействует «целомудрие» – «поскольку исключаются все возбудители, затухает и влечение». Без сексуального воздержания «никогда и ни в коем случае не получится» обеспечить невротикам «настоящий покой». В этом пункте Мёбиус был анти-Фрейдом, даже если был вовсе не чужд фрейдовского мнения, что корни неврозов кроются в либидо. Монастырский идеал многократно встречается в идеях по лечению неврозов (см. примеч. 59).
Если считать, что вера, брак и семья – это источник жизненной силы, центральное ядро буржуазной идеологии, то удивляет, как сильно в иных речах сторонников нервных клиник прорывается враждебность к семье. Женщина уже не выступает полюсом покоя в жизненных бурях. Брату одного из пациентов Арвайлера, 25-летнего торговца из Рурского региона, ведущий врач Эренвалль заявляет открытым текстом:
«Больше всего ему [пациенту] хотелось бы быть свободным и холостым; брак подавляет его, он хотел бы освободиться от его оков. […] Поэтому во что бы то ни стало необходимо пощадить Вашего господина брата, насколько это вообще возможно, от переписки, и прежде всего не являться к нему с семейными сплетнями (sic!) и тому подобным. До чего довели Вашего господина брата различные семейные разногласия, вы даже представить себе не можете» (см. примеч. 60).
Прорывом в массовом движении нервных клиник считается открытие «Дома Шёнов» в Целендорфе под Берлином. Идейным толчком здесь послужил труд Мёбиуса о нервных клиниках, написанный в 1896 году. В 1897 году берлинский банкир Берль пожертвовал на учреждение заведения капитальный взнос в 100 тысяч рейхсмарок. В 1898 году было основано «Общество клиники для нервнобольных “Дом Шёнов”», и уже в конце 1899 года заведение было торжественно открыто – такой темп был примечательным даже в условиях тогдашнего Берлина (см. примеч. 61).
Реклама для привлечения инвестиций сделала нервные клиники открытой темой. Появились первые протесты, сомнения в пользе подобной филантропии. В 1898 году из-за «Дома Шёнов» в газете «Die Zukunft» завязалась очень серьезная дискуссия, впервые показавшая, какие ответные реакции способен вызвать рост культуры нервозности. Берлинский невролог Альберт Эйленбург, один из главных представителей медицинской гильдии в борьбе с больничными кассами, высказал резкую неприязнь к нервным клиникам, хотя в свое время их защищал. Теперь в его голосе появились тревожные нотки, и внезапно зазвучали совершенно непривычные для дискурса нервов слова:
«Вместо непомерной симпатии, которую мы выказываем обременительному переизбытку живущих, но не нужных для жизни “неполноценных” и “нервозных”, вместо раздутых и сверхтревожных усилий лечить всех этих людей за счет государства или общества, желания осчастливить всех и каждого в различных заведениях, давайте лучше обратим взгляд в будущее и попытаемся выступить против роста и развития обстоятельств, угрожающих надолго подорвать тяжелыми хроническими болезнями силу нашего народа, применив мощные средства и меры, пусть даже нежеланные и непопулярные».
Удивительно, как тот самый Эйленбург, который несколькими годами позже, в 1905 году в одном из номеров «Gartenlaube» при слове «нервозность» впадает в услужливый тон и беспокоится о том, что для «обессиленных неврастеников» не благотворна «атмосфера иных мест на Ривьере», в «Die Zukunft» отстаивает идеи жесткого социал-дарвинизма. Может быть, он хотел привлечь внимание к только набиравшей популярность газете. Вскоре он же опубликовал на ее колонках рассказы о маркизе де Саде и Леопольде фон Захер-Мазохе (см. примеч. 62). Но надо отдать должное «Die Zukunft» – в том же году Мёбиусу была предоставлена возможность ответить, и споры продолжились.
На торжественном открытии «Дома Шёнов» 3 декабря 1899 года выступил бранденбургский оберпрезидент Теобальд фон Бетман-Гольвег, будущий рейхсканцлер. Он сообщил, что в учреждении заведения принимал участие сам кайзер, – с приходом нового века отношение к неврологическим клиникам стало в высшей степени серьезным. Первое время заведение могло принимать до 80 пациентов, среднее время пребывания которых составляло около двух месяцев. В составе больных 1-е место занимали неврастеники. Затем заведение расширилось, в 1903 году одних неврастеников было уже 210 человек. «Бесплатных коек» было немного, тарифы ориентировались на предварительно рассчитанную себестоимость. В 1901 году 60 % пациентов оплачивали свое пребывание сами, за 30 % платили больничные кассы. Большинство составляли выходцы из среднего сословия. Но были и неврастеники из рабочего класса, именно здесь они впервые появились как ограниченная группа, доступная для медицинской статистики. Это включило в нервный дискурс новый элемент (см. примеч. 63).
Следующим учреждением имперского значения была лечебница Раземюле под Гёттингеном, торжественно открытая 29 сентября 1903 года и рассчитанная на 75 пациентов. И здесь весь процесс – от первой инициативы до открытия клиники – прошел быстро и беспрепятственно, акция была подхвачена и осуществлена на волне единого активного настроя. Основным двигателем здесь выступил психиатр из Гёттингена Август Крамер – человек, который, по словам одного биографа, «обладал исключительной силой убеждения и умел для исполнения своих планов пустить в ход все возможные службы без исключения». Правительство Ганновера он убедил в том, что возможности источников Раземюле еще далеко не исчерпаны функционирующими заведениями, и что неврологический санаторий станет самым прибыльным делом. В зажигательной речи перед парламентом Ганновера он объяснил, что лечебница совершенно необходима как превентивная мера для содержания неизлечимых психически больных, и что если ее не будет, то такие больные тяжким грузом лягут на плечи общества (см. примеч. 64).
Крупнейшей нервной клиникой кайзеровской Германии, не ориентированной на получение прибыли, стал Родербиркен близ Золингена, на окраине Бергского текстильного и металлургического региона. Это величественное заведение торжественно открылось в 1906 году и было рассчитано на 145 пациентов. Первая инициатива исходила из Бергского благотворительного общества, затем ход событий определяло тесно связанное с ним Земельное страховое общество (LVA) Рейнланда. Сходным образом учреждалось и расположенное неподалеку заведение для легочных больных Ронсдорф: просматривается связь различных инициатив по учреждению лечебниц и более глубокая подоплека гигиенического движения, которое в Рейнской области развернуло особенно активную деятельность. Заметен также немалый вклад государственных страховых учреждений. В остальном Родербиркен интересен высокой долей сотрудников из нижних слоев общества и тем, что это заведение, вопреки исходному плану народных нервных клиник, исходно предназначалось только для женщин. Лейтмотивом здесь было не столько содержание умалишенных, а как можно более дешевое и в то же время эффективное лечение выздоравливающих пациенток – в большинстве своем «нервозных» или «слабонервных». В неотложности и важности этой задачи сомнений не было. В 1903 году было основано спонсорское общество «Рейнское народное заведение для нервнобольных», куда вошли сливки рейнской экономической буржуазии, включая Круппа и Стиннеса. Даже из Йены от Цейса пришел взнос в размере 1000 марок. В Рейнской провинции неврологи и психиатры имели совместное общество, и оно также выступило в поддержку народной лечебницы. Немало психиатров чувствовали себя задавленными всей этой активностью, развитие неврологических клиник грозило сделать их существование еще более плачевным, отнимая у них более легких больных. Но в обществе подобные голоса отклика не находили. Уверенность в пользе и общем благе неврологических клиник господствовала тогда практически повсеместно.
Когда планы приобрели четкие контуры, LVA внесло взнос, который во времена учреждения Родербиркена покрывал 80 % стоимости ухода за больными. Если спонсорское общество «изначально планировало учредить небольшое заведение в недорогих виллах или сельском поместье, своего рода опытную станцию», то LVA «имело в виду более крупное учреждение», которому надлежало стать образцовым и «соответствовать всем требованиям науки». Почему же именно страховая компания, взявшая на себя львиную долю расходов, настаивала на увеличении масштабов? Дело в том, что в то время страховая компания ожидала от неврологической лечебницы огромную выгоду, ведь ее клиенты дольше сохранят трудоспособность, и LVA, сэкономив на выплате пенсий и компенсаций, в 2 и в 3 раза окупит все вложенные в Родербиркен расходы. Однако по документам не видно, чтобы при учреждении народных нервных клиник действительно проводились бы серьезные калькуляции расходов и доходов. Если смотреть более трезвым взглядом, земельные страховые компании, как подчеркивал руководитель заведения Наунхоф под Лейпцигом, особого интереса в нервных клиниках не имели, «поскольку предназначенные по закону методы лечения нервнобольных, в том, что касалось возвращения таким больным трудоспособности, вызывали серьезные сомнения». Но в рейнско-бергском регионе хотели верить в пользу нервных клиник, и потому приводимые аргументы никто не критиковал.
По замыслу главной задачей народных нервных клиник должно было стать лечение «более или менее острой или приобретенной неврастении». Уже в первый год своего существования Родербиркен принял 479 пациенток с «функциональными» расстройствами, из них 286 – с «различными формами слабонервности». «Слабонервность» была самым частым диагнозом и 20 лет спустя. В 30-е годы частота ее стала снижаться, зато возросли жалобы на проблемы с желудком.
Для Мёбиуса нервная клиника носила ярко выраженный мужской характер. На рубеже веков, напротив, оживленно обсуждался вопрос о том, не нуждаются ли нервные женщины в заботе общества – быть может, даже более мужчин. Ссылались не только на природную слабость женщины, появился и новый аргумент – ее экономическая слабость: «в борьбе за существование женщины более уязвимы». Одна из самостоятельных тенденций в эволюции народных нервных клиник заключалась в преодолении их женоненавистнических истоков. С точки зрения LVA, в Рейнской земле более сильную в количественном отношении потребность демонстрировали пациенты женского пола, так что Родербиркен исходно предназначили исключительно для женщин, и лишь много позже, в 1912 году, была обустроена и отдельная лечебница для мужчин. Среди пациенток Родербиркена 1-е место с большим отрывом занимали работницы фабрик (ведь это был текстильный регион), за ними следовали горничные, портнихи и продавщицы. Подавляющее большинство обитательниц клиники составляли незамужние и профессионально работающие женщины до 40 лет (см. примеч. 65).
Эрнст Байер, первый главврач Родербиркена, предпочитал небольшие частные клиники и не скрывал свой скепсис относительно предоставленного в его распоряжение крупного комплекса, настроенного, скорее, на «массовое лечение» в стиле легочных санаториев. Уже разнообразные звуки и шумы столь крупного учреждения могут быть мучительны для невротиков. «Какой коллега не задавался вопросом, не предпочел бы больной лечиться на вершине Монблана или на необитаемом острове?»
На Висбаденском заседании Немецкого общества по охране общественного здоровья в 1908 году один берлинский врач отмечал, что нервные клиники «слишком роскошны, а их деятельность слишком расточительна». Он рассказывал о дешевых «воздушных кабинах», настолько популярных, что больных оттуда «не вытащишь». Получалось, что огромные величественные здания на самом деле не имеют с терапией нервнобольных ничего общего. Руководитель лечебницы Танненхоф под Ремшайдом в 1908 году отмечал, что Родербиркен «увы, совершенно не оправдал ожиданий». Бюджет Родербиркена демонстрировал глубокий дефицит: в 1913 году из совокупных затрат, составивших 563 300 марок, 381 246 марок были оплачены за счет дотаций LVA. Уже в 1907 году можно было видеть, как «после очень резвого старта» учреждение нервных клиник затормозилось. Эпоха расцвета для народных нервных лечебниц так и не наступила, и когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, время нервных санаториев уже оказалось в прошлом. В 1914 году из Родербиркена «уже в первые три дня августа были выписаны все пациенты мужского пола», а к середине августа опустело и женское отделение (см. примеч. 66).
Хотя народные клиники как дело общенародное больше бросались в глаза, они оставались единичным явлением на фоне огромного числа частных доходных санаториев. В обстановке этих заведений, вопреки квиетистским учениям о нервах, главным трендом стали модернизация и увлеченность новыми технологиями. В их рекламных текстах значительную роль играли преимущества водопровода и электрификации. То же относилось и к психиатрическим заведениям. Между длительными ваннами, которыми успокаивали пациентов в сумасшедших домах, и водопроводным комфортом нервных санаториев, призванным снять напряжение с больного, существовала подспудная взаимосвязь. Около 1900 года и то и другое стало возможно довести до такого совершенства, о каком прежде без новых технологий нельзя было и мечтать. В лечебницах комфорт повышался на широком общем фоне – в конце XIX века в городах началась великая эпоха канализации, электрификации и расцвета всевозможных гигиенических технологий. Лечебницы, претендовавшие на статус прогрессивных, старались не отставать от общих трендов. Эренвалль в одном из докладов 1898 года оправдывает рост своего заведения: «Общее развитие хозяйственной жизни, подстегиваемое техническим ускорением, повсюду стремится к замене мелкого ручного производства более крупным и более выгодным механическим». Он с гордостью сообщает, что его заведение опередило городок Арвайлер в вопросах канализации и электрификации. Тут надо упомянуть и некоторые отзывы. В 1912 году оппозиционное издание «Volksmund»напечатало статью «Автомобилизм, психиатрия и защита прав невротиков» под псевдонимом Medicus adeptus, в которой упоминалась не только склонность Эренвалля к новой технике, но и его участие в процессах по лишению дееспособности: «Насколько мы знаем, аэроплан пока еще не закуплен, чтобы забирать невротиков в их смирительные клетки, но кто может предсказать, как еще практическая психиатрия будет приспосабливаться к чудесам современной техники! “Лишай дееспособности паром!” – давно уже стало лозунгом в Арвайлере». В то же время ревизионные отчеты окружного врача о заведении Эренвалля полны восторгов от технических новшеств (см. примеч. 67).
Если фанатичные натуропаты спорили между собой о том, что лучше – сидячие или лежачие ванны, холодный душ или теплая ванна, «воздушные ванны» или «плескание в воде», то крупные неврологические санатории, как правило, не придерживались конкретных теорий и предпочитали эклектику, предлагая богатейший ассортимент всевозможных терапевтических методик, основанных на самых разных философских концепциях. Новые технологии внесли свой вклад в этот ассортимент. Современный душ был уже не просто лейкой: его можно было сделать сильнее или слабее, настроить на различную температуру. Прогресс электротехники расширил экспериментальное поле электротерапии.
Около 1890 года в крупных немецких городах появились первые «медико-механические институты» с гимнастическими аппаратами Цандера. Вопрос о методе – ручном либо механическом – расколол лечебную гимнастику на два лагеря. Невротики служили для Института Цандера неиссякаемым источником постоянных клиентов: видна связь между нервозностью и страстью к новым технологиям. В 1900 году клиника Шарите при поддержке могущественного министериаль-директора Фридриха Альтхофа пополнилась Институтом гидротерапии, в который немедленно поступили пациенты. К нему были присоединены отделения механо- и электротерапии «с богатой аппаратурой». К ним же примкнула и основанная в 1906 году больница Вирхова с «несравненным», по словам французского журналиста Жюля Гюре, гидротерапевтическим отделением. «Природные» методы лечения сложились в Шарите в сложную и технически затратную систему, в которой особенно бросается в глаза специализация на различных частях тела:
«Началось бегство в аппаратуру. Что прежде доверялось человеческой руке, осязанию, глазу, теперь передоверялось промышленности в иллюзорном представлении, что таким образом можно что-то облегчить или сделать более объективным. […] Сначала были […] пузыри со льдом и грелки, слишком грубое действие которых признали поздно и с ужасом. […] Их сменили электрические термостаты, вольтовы дуги, все более сложные и дорогие душевые и ванные установки, […] душевые катетеры, шланговые установки, горячего […] и холодного воздействия на голову, сердце и область желудка, […] Арцбергский зонд для прямой кишки; ванны с пузырьками воздуха и пенные ванны; душевые кабины с потоками горячего воздуха и паровые кабины, различные световые ванны в форме дорожек с обручами. Аппараты с потоками горячего воздуха для отдельных частей тела; электрические ванны с лампочками и рефлекторами и т. д., и т. д.» (см. примеч. 68).
Между строк историй болезней неврастеников конца XIX – начала XX века читается, сколь вредным могло быть то, что тогда считалось терапией, – до такой степени, что невольно задумываешься, не была ли тогдашняя нервозность отчасти результатом самой этой терапии. Некоторые неврологи жаловались, что нескончаемое лечение нередко ухудшает неврастению.
Но технические – в большей мере, нежели терапевтические – достижения были не единственной новостью в применении воды. Тогда же общество открыло для себя прелесть купания в море и плавания на открытой воде. Любые водные курортные процедуры стали теперь казаться педантизмом и скукой. На рубеже веков в Немецком обществе народных вод шла оживленная дискуссия между сторонниками душевых кабин и бассейнов, в 1904 году инспектор по купанию из Эльберфельда подвел итог: «Народ сам решил, что идет ему на пользу, и вы с вашими душевыми кабинами ничего не сможете сделать. Народ требует бассейнов. Он хочет окрепнуть и сделать своих детей здоровыми, а для этого нужен бассейн, а не душевая кабина». С ним согласился коллега из Дрездена, высоко оценив «плавание и купание в проточной воде» в качестве «курса укрепления нервов» (см. примеч. 69). Нервный дискурс недолго следовал путем коммерчески успешной терапии, уже скоро он вырвался на волю.
Если связь учения о нервах с ростом числа лечебниц в ретроспективе вызывает смешанные чувства, то для того есть еще одна причина: растущий интерес к нервозности, пусть и не напрямую, пусть и в отдаленной перспективе, но способствовал изоляции неизлечимых душевнобольных. Среди врачей-неврологов было распространено мнение, что «нервнобольных нужно резко отделять от душевнобольных». В санаторном деле такое разделение требовалось сперва организовать. Отчасти это так и осталось на уровне замысла. Многие частные заведения из финансовых и практических соображений принимали у себя и легких, и более тяжелых больных, пусть и размещая последних в изолированных отделениях. В таком случае они приобретали странную двойственность: с одной стороны – курорт, с другой – больница для умалишенных, рай и ад. Рассортировать новоприбывших было не всегда просто; иногда правильнее было спустя какое-то время переводить пациента из одного отделения в другое. Когда в 1907 году Ганс Курелла описывал состояние дел в Арвайлере, он счел «скандальным», что в открытом и практически не охраняемом отделении «больные с тяжелыми психическими расстройствами […] постоянно составляли примерно треть всех пациентов» (см. примеч. 70). Гигиенист социал-демократической закалки Гротьян, который акцентировал внимание на длительном содержании неизлечимых больных, в своих «Руководящих принципах», составленных им в 1908 году для нервных клиник, давал понять, что «неспособные к улучшению психопаты» содержатся недостаточно изолированно, лечебницы в этом смысле недостаточно последовательны, а их трудовая терапия – всего лишь «забава» и приносит слишком мало пользы экономическим интересам заведения (см. примеч. 71).
Психиатрические больницы в конце XIX века также пережили бум. Дирк Блазиус пишет, что крупные клиники создали «платформу», чтобы продемонстрировать «всемогущество бюрократии». Однако у немецких бюрократов того времени не видно стремления к тоталитарному контролю, а душевнобольные были не самым привлекательным объектом для власти. История учения о нервах предлагает другое решение. «Господа, кто из нас посмел бы твердо верить, что его никогда не нужно будет поместить в заведение для душевнобольных?» – задал риторический вопрос один из ораторов на заседании парламента Рейнской провинции в 1865 году. В XVIII и XIX веках почти везде господствовало мнение, что и здоровый человек вследствие треволнений и ударов судьбы может сойти с ума. Значительная часть тревог о нервах выросла из опасения, что нервозность – это первый шаг на пути к безумию. Мёбиус в одной из своих речей в поддержку нервных клиник объяснял, что из всех причин, по которым здоровые люди заботятся о больных, самая главная – «страх заболеть самому». И происходившее в то время объясняется самым непосредственным образом, если именно здесь увидеть главный мотив учреждения лечебниц, идет ли речь о безумцах или о невротиках.
Однако с приходом нового века точка зрения постепенно меняется, и окончательный перелом наступает после Первой мировой войны. Нервозность, поскольку она не была выражением дегенерации, стала считаться безобидной. Здоровый человек теперь был уверен в том, что при любой нервозности он неуязвим для безумия. Собственная нервозность помогала оправдать свое неприятие людей с тяжелыми нарушениями. Осознание подверженности нервным расстройствам, изначально порождавшее сочувствие к душевнобольным, стало мотивом для изгнания «психов» из поля зрения (см. примеч. 72).