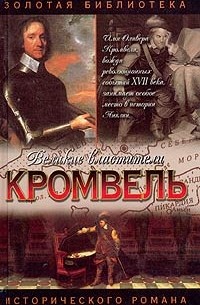Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Вдобавок наступало темное время. Энергия созидания всё истощалась, энергия разрушения всё нарастала. Самые благоприятные обстоятельства внезапно сводились на нет, вызывая горечь и озлобление. Казалось, мир пришел на английскую землю, а мир не может не вести к благоденствию, к процветанию. Вчерашние враги точно сговорились искупить вину за нанесенные поражения. Испания и Франция готовились вступить в Тридцатилетнюю войну и вскоре вступили в неё, война втягивала в свой кровавый водоворот одну страну за другой, пока не овладела Европой. Война требовала сукна для мундиров, прочных кож для колетов, портупей и сапог, она требовала хлеба и мяса для вечно голодных солдат. Всё это Англия могла дать в изобилии. Сельские хозяева оживились, ремесленники взялись за работу, торговые люди нанимали сотни кораблей, корабли вывозили товары из Англии, перебрасывали снаряжение и солдат из Испании в испанские Нидерланды и в германские княжества. Торговые дома процветали. Английские векселя во всей Европе превращались в главное, в самое надежное платежное средство. В обмен на них Из Испании в Лондон хлынули слитки золота и серебра, награбленные испанцами в американских колониях. Казалось, ещё несколько таких лет, и разбогатевшая Англия сможет прокормить самого прожорливого из королей и его ещё более прожорливый двор.
А король Карл валил напролом, бестолково, бездумно вытаптывая и самые первые ростки процветания. Лично он не был расточительным человеком, безнадежным прожигателем жизни. Его сбивала с толку идея абсолютизма, победившего во всех странах Европы, его соблазнял пример австрийского императора, испанского и французского королей, утопавших в неслыханной роскоши. Роскошь двора представлялась ему верным свидетельством непререкаемой власти неограниченного монарха. Он усердно возрождал блеск придворных, многодневные пышные празднества, охоты и развлечения, восстанавливал старинные обычаи придворной жизни, точно ничего не изменилось в Англии за последнюю сотню лет. Его расходы увеличивались с катастрофической быстротой. Он раздавал пожалования и пенсии, и в сравнении с правлением бережливой королевы Елизаветы они возросли в семь или в восемь раз, издержки его двора увеличились вдвое, вдвое возросли расходы на гардероб королевы, а ведь и Елизавета любила пышно и разнообразно одеться, его собственные расходы выросли втрое. Немудрено, что государственный дефицит помчался вперед на всех парусах, и если при Елизавете он достигал четырехсот тысяч фунтов стерлингов, то при короле Карле он вырос в три раза.
Громадные расходы были бы простительны, если правление короля Карла блистало победами, дипломатическими успехами, достижениями во всех областях, если бы за ними ощущалась государственная необходимость, а король Карл мог предъявить своим подданным одни прорехи и поражения. Ни пенса, ни шиллинга из этих громадных расходов не пошло на самые крайние нужды, на защиту торговли, на борьбу с конкуренцией со стороны европейских держав. С оживлением торговли оживились пираты. Они хозяйничали в Ла Манше, проникали в пролив Святого Георгия, терроризировали прибрежное население, грабили деревни и города, пленяли сотни англичан и обращали в рабов. Тем временем королевский флот бесславно гнил в гавани Портсмута. Одни фрегаты серьезно пострадали от метких выстрелов под Ларошелью, другие были потрепаны осенними бурями на возвратном, постыдном пути, третьи были источены временем, офицеры и матросы не получали законного жалования и предпочитали, благоразумно оставив бездоходную королевскую службу, переквалифицироваться в пираты, так что ни один фрегат после бегства от Ларошели не выходил в открытое море. Укроти король Карл свою гордыню хотя бы на градус, обрежь собственные расходы хотя бы на треть, разгони придворных паразитов на службу, передай в адмиралтейство сотню-две тысяч фунтов стерлингов, проведи адмиралтейство капитальный ремонт хотя бы полтора десятка фрегатов и выплати жалованье, очисти они от пиратов Ла Манш и пролив Святого Георгия, охраняй королевские конвои торговые суда от грабежа и захвата, вся трудовая, торговая Англия благословила бы своего короля.
Вместо этого трудовая, торговая Англия с каждым днем всё больше его ненавидела, вопреки даже тому, что король Карл вовсе не был жестоким тираном. Он был всего лишь глубоко, неискоренимо несправедлив, он не щадил древних нравов, он оскорблял уже вкоренившиеся права, которыми многие англичане дорожили много больше, чем дорожили имуществом, он не обращал внимания на действующие законы, он легкомысленно нарушал собственные обещания, скрепленные его честным словом, он бесчинствовал, попросту говоря. В желании поживиться и угодить своему королю его новые помощники наглостью всё новых и новых поборов возбуждали негодование. Вдруг обнаруживалось, что королевские леса во многих местах были сведены лет сто или двести назад, а земли розданы или проданы крупным землевладельцам, однако на старинных картах они всё ещё оставались лесами, принадлежащими королю, и по его повелению землевладельцев, во втором, в третьем, в четвертом поколении не видевших никакого леса, штрафовали на незаконное посягательство на леса короля. Также вдруг королевский лес разрастался в несколько раз, захватывая чужие леса, и в один ненастный день ни о чем не подозревавший владелец получал постановление королевского суда, которым на него налагался штраф в две, в три, в пять, в десять, даже в двадцать тысяч фунтов стерлингов за пользование собственным лесом, который ни с того ни с сего стал принадлежать королю, что не могло не выглядеть как откровенный грабеж. Также вдруг обнаруживалось, что в Англии уже второе столетие шли огораживания, что пахотные земли обращались в луга и в пастбища для овец, что арендаторов сгоняли с земли, что арендаторы превращались в бродяг и что население земледельческих графств стремительно сокращалось, и постановлениями тех же королевских судов на скотоводов, трудами которых обеспечивалось благосостояние Англии, накладывались непомерные штрафы. В общей сложности сумма столь удивительных штрафов достигала двух миллионов. Эта сумма и сама по себе была чрезвычайно значительной, однако оскорбительней всего было то, что штрафы ничего не меняли: пастбища и луга не обращались в пашню, леса не возобновлялись, объявленные королевскими леса так и оставались у прежних владельцев, и король оставлял за собой безобразное право, если вздумается, наложить новый штраф.
Англичанам начинало казаться, что король Карл просто-напросто превратился в разбойника. Они отказывались платить по грабительским до нелепости искам – их отдавали под суд. Не каждый судья соглашался признать законными претензии короля, не каждый судья был чист на руку и невинен душой как дитя, безвинные страдальцы королевского произвола сплошь и рядом предпочитали умаслить судью и тем отбиться от бесстыдного штрафа, это все-таки обходилось дешевле, а самолюбие меньше страдало от нанесенного оскорбления. Однако спасения не находилось и на этих исхоженных тропах взаимного беззакония. Отклоненные иски без промедления передавались чрезвычайным судам, вроде Высокой комиссии или Звездной палаты, учрежденной при короле Генрихе V11. Этим милым заведениям закон не был писан. Они арестовывали, пытали, штрафовали, подвергали зверским увечьям, следуя единственно пожеланию своего короля.
Негодование росло, а денег всё равно ни на что не хватало. Вновь на свет божий выплыли монополии, которые дважды осудили и отклонили представители нации. Торговля патентами возобновилась и пошла полным ходом. В монополии превращались все мыслимые, а потом и немыслимые промыслы, торговля и ремесло. Разорялось всё, что не купило проклятый патент, приходили в запустение мастерские свободных ремесленников, пропадали мясо и шерсть свободных сельских хозяев и арендаторов, закрывались конторы мелких торговцев, росла безработица, одни безработные грабили на дорогах или поступали в пираты, другие переполняли окраины Лондона, голодали и бедствовали, постепенно созревая для мятежа. Отставные ораторы распущенного парламента возмущались, проклиная монополистов:
– Эти люди точно египетские лягушки овладели нашими жилищами, и у нас не осталось ни одного места, свободного от них. Они пьют из наших чаш, едят из наших блюд, сидят у наших каминов, мы находим их в нашем красильном чане, в умывальнике, в кадке с солеными огурцами, они устраиваются в нашем погребе, они покрывают нас с головы до ног своими клеймами и печатями!
Своеобразную монополию на человеческое достоинство получили английские лорды. Нетитулованное дворянство под разными предлогами и по любым поводам ставилось в униженное положение в сравнении с ними. Под предлогом борьбы с расточительностью было запрещено покидать свои поместья сельским дворянам, и без того, по обычаю пуритан, бережливых до скупости. Зато с крайней суровостью наказывалось малейшее неуважение с их стороны, проявленное или будто бы проявленное в отношении знатного человека. Достаточно было сказать в тесном кругу, что такой-то из высших придворных несколько глуп, такой-то на руку нечист и хромает по части морали, порой было довольно посмеяться над длинным носом и некоторым сходством с ослом, чтобы в Звездной палате завелось уголовное дело, которое обыкновенно завершалось серьезным штрафом в несколько тысяч с присовокуплением плетей или выставления к позорному столбу на главной площади Лондона.
Король Карл едва ли подозревал, что его легковесный, легкомысленный деспотизм порождает тысячи мелких, но разнузданных деспотов. Если сам король под видом своих неотъемлемых привилегий творил безобразия, то лорд-наместник творил их вдвое, а его комиссары превращались в голодных волков, напавших на отару овец. Комиссары разъезжали по графствам и выискивали самые нелепые, самые фантастические предлоги для наложения штрафа, причем оставалось неясным, какая доля из этого штрафа добиралась до казны короля. Ложное обвинение становилось делом обычным. Брали с богатых, потому что богатые были богаты, обдирали бедных как липку на том основании, что бедные всегда беззащитны и безответны. Когда же недовольство становилось слишком опасным, в беспокойное графство направляли солдат, которых недовольные жители обязаны были разбирать по домам и содержать, даже одевать на свой счет, после чего предлагали недовольным жителям угомониться и кое-что подарить высшим властям и великодушно освобождали их от постоя. Когда все средства бывали исчерпаны, сажали в тюрьму за долги кого-нибудь побогаче, зная прекрасно, что никаких долгов за ним нет, и томили его до тех пор, пока не сообразит, кому и за что он должен платить. Когда же до канцелярии короля все-таки доходили кое-какие жалобы на безобразия и бесчинства лордов-наместников и их комиссаров, со своей стороны лорды-наместники и их комиссары тоже вынуждены были платить, чтобы в канцелярии короля замяли неприятное дело. Однажды лорд-наместник Ирландии, приговоривший к смерти ни в чем не повинного человека, поскольку в тот день просто-напросто находился в дурном настроении, умудрился всучить шесть тысяч фунтов стерлингов самому королю, и преступление сошло ему с рук.
Злоупотреблениям высших властей сопротивлялись упорней остальных англичан пуритане. Следовательно, пуритан было необходимо усмирить, обуздать, чтобы беззаконные налоги и штрафы поступали бесперебойно. Усмирение пуритан король Карл поручил Уильяму Лоду. В 1633 году Уильям Лод, шестидесяти лет, был возведен в сан архиепископа кентерберийского, что превращало его в главу англиканской, правительственной церкви. Король Карл был человек верующий, но над вопросами веры не ломал головы, его вера оставалась неясной, расплывчатой, он как будто исповедовал лютеранство и как будто склонялся к католицизму, пышность обрядов его развлекала и утешала, власть римского папы была бы для него нежелательна, согласно с законом он должен был управлять своей церковью сам, как должен был управлять сам всей внутренней и внешней политикой, раз уж он возомнил себя абсолютным монархом, однако не управлял своей церковью, как не управлял ни внутренней, ни внешней политикой.
Уильям Лод стал полновластным хозяином во всех церковных делах. С высоко поднятыми бровями над выпуклыми глазами, с круглым сытым лицом, с кокетливой седовласой бородкой и аккуратными усиками, он был образцовым, самым опасным, самым страшным тираном, потому что был глубоко честен, отличался чрезвычайной строгостью нравов, вел простой образ жизни и был бескорыстен, что превращало его в человека непримиримого. Он служил не столько Богу, сколько высшей, неограниченной власти как таковой, то есть не личной власти, не власти короля Карла или своей собственной власти примаса, но символу, философскому принципу власти. Его убеждения были простыми и прочными: высшая власть обеспечивает порядок и таким способом поддерживает справедливость и правосудие, тогда как малейшее отступление от предписанной нормы есть беспорядок и, стало быть, торжество несправедливости и неправосудия, обеспечить порядок высшая власть может единственно бестрепетной строгостью и неотвратимостью наказания за нарушение предписанных норм.
Его заветной мечтой было водворить в англиканской церкви строжайший порядок, и он его водворял. Он упрочил церковную иерархию, возвысил епископов, отдал приходы в их полную, безраздельную, неоспоримую власть, обязал их обеспечивать полнейшее единообразие культа и примерную нравственность прихожан. Епископы должны были преследовать и наказывать, наказывать и преследовать, а всё, что было связано со смыслом и формой вероучения, он брал на себя.
Его самоуверенность не знала границ. В ослеплении собственной непогрешимостью мнилось ему, будто власть в руках честного человека всегда справедлива, сам он был честен, действительно честен, из чего следовало, что каждая мысль, зародившаяся в его голове, каждое им изреченное слово были истинны, вели к справедливости и потому получали силу закона. На этом основании он не искал ничьей дружбы, не нуждался ни в чьем одобрении, бывал одинаково резок и строг с важным придворным и с простым горожанином и от всех равно требовал беспрекословного повиновения его предписаниям. Малейшее возражение, тем более сопротивление его высоким предначертаниям в его глазах было бунтом, который он обязан был жесточайшим образом пресекать.
Необыкновенно деятельный, неутомимый, он составлял циркуляры, расписывал церковные обряды до мельчайших подробностей и требовал неукоснительного их соблюдения. Ему было дорого всё, что служило усилению и возвышению власти, и он увеличивал пышность обрядов, возвратил в англиканскую церковь крестное знамение и преклонение колен, он сочинял проповеди, в которых прославлялось безусловное повиновение высшим властям, независимо оттого, что требовала от верующих эта высшая власть. Его усердием церковная организация должна была превратиться в полицейский участок.
По милости честного, бескорыстного Уильяма Лода пуритане изведали неумолимую жестокость террора. При малейшем подозрении в пуританстве проповедников изгоняли из англиканской церкви. Сердобольные прихожане назначали им пенсии – эти пенсии отбирали. Сельские хозяева, фермеры, богатые горожане брали изгнанных проповедников в дом капелланами или наставниками детей – ищейки местных епископов добирались до них и лишали их места, а вместе с местом лишали их насущного хлеба. Они становились бродячими проповедниками – их настигали в тавернах, на городских площадях или в тайных убежищах. Цензура запрещала новые книги, если в них обнаруживалась хотя бы тень отступления от официально утвержденного вероучения, отыскивала и истребляла изданные в прежние годы труды по подозрению в том же грехе. В церкви и дома запрещалось рассуждать о смысле вероучения или обрядов, а также о смысле и тайнах человеческого, тем более вселенского бытия. Все виновные в нарушении новых церковных порядков представали перед церковным судом, который превосходил светский суд своим изуверством. Обвиняемых унижали и оскорбляли прямо в зале суда, их именовали идиотами, дураками, наглецами, подонками, им приказывали молчать, как только они пытались себя защитить, их зверски пытали, в лучшем случае их присуждали к немыслимым штрафам, в худшем подвергали публичному бичеванию, ставили на лоб клеймо, вырывали ноздри, резали уши, точно они, проповедуя свою веру, совершали уголовное преступление. Десятки, сотни тысяч озлобленных, обессиленных, потерявших надежду пуритан бежали в Америку – неусыпные ищейки честного, бескорыстного Уильяма Лода и за океаном пытались преследовать их по пятам.