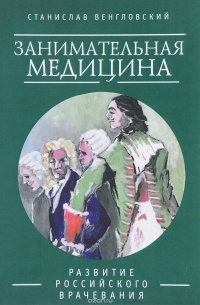Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава V. Данило Самойлович
Чума – болезнь прилипчивая, но удобно обуздываемая и пресекаемая и поэтому не должна быть опасною, как обычно ее изображают.
Жизнеописание этого знаменитого малорусского врача, как нам кажется, – чрезвычайно сильно смахивает на биографию какого-нибудь матерого конкистадора, искателя собственных, притом – весьма многочисленных приключений…
Чудесные путешествия его по всему, известному на ту пору, тогдашнему миру, вернее – просто скитания, были тесно переплетены с непрерывными его же воинскими походами, с разными перемещениями по службе, да и с прочими служебными поручениями, от которых никак невозможно было укрыться ему самому.
Очень похожей оказалась она и на жизнь самого Нестора Максимовича Максимо́вича (Амбодика). Однако – в том лишь плане, как подлинного основателя отечественной эпидемиологии, в отличие от самого Амбодика, – такого же созидателя, как и он, нашего, сугубо отечественного акушерства…
По всем имеющимся в настоящее время данным, родился он 11 (22) декабря 1744 года в селе Яновка Черниговской губернии, в семье деревенского священника Самуила Сушковского.
Как звучала его настоящая фамилия, в точности, Сушковский или же Сущинский, – теперь уже никак невозможно узнать.
Он знал лишь одно: и дед, и отец его были священниками. Помнил он также и то, что само его имя – «Даниил», – дал ему родной его дед. Очевидно, в честь библейского пророка Даниила, которого не все, однако, священнослужители принимали даже за истинного, за – достоверно библейского. Скажем, митрополит Филарет, известный в миру как Василий Михайлович Дроздов, – не признавал его настоящим библейским пророком. Впрочем, об этом уже было заявлено нами в первом же томе нынешнего издания «Занимательной медицины», всецело относящегося еще к античному периоду.
Впрочем, насчет точного года, в котором родился он, – тоже довольно трудно сказать. В википедии, к примеру, приводятся разные даты его рождения, начиная с 1742, а заканчивая, кажется, даже каким-то 1746 годом.
В то патриархальное время никто не оказывал ему надлежащего внимания, пока не наступила пора задумываться над образованием подросшего вдруг малыша. Пока не наставало время подумывать, в какую бы школу удобнее всего было бы мальчишку пристроить…
Дороги Нестора Максимовича Амбодика и Данилы Сушковского сошлись в стенах благословенной Киевской академии. Да и сама она, эта академия, со временем, начиная уже с 1819 года, с весьма частых поездок императора Александра I Благословенного в город Киев, – превратилась в чисто духовное учебное заведение. С тех пор в ней стали готовить исключительно будущих священников, преимущественно – для разбросанных по всей территории Украины многочисленных сельских приходов.
Однако же, первоначально, Киевская академия давала основательную подготовку для всех видов и родов человеческой деятельности.
Что же касается Данилы Сушковского – то именно там подружился он со многими своими сверстниками. Например, – с уже известным нам Мартином Тереховским, с Андреем Италинским. Последний отличался от них хотя бы тем своим свойством, что он очень долго, пусть и впоследствии, путешествовал за границей. Стал там очень уж важным, заграничным даже профессором.
Между прочим, он даже стал даже слишком известным своими приятельскими связями с великим русским художником Орестом Адамовичем Кипренским, который, говорили, вроде бы, даже написал великолепный портрет его, в чем-то очень подобным облику широко известного пушкинского портрета…
Там же будущий эпидемиолог подружился и с таким же будущим специалистом повивального дела, настоящим последователем Нестора Максимовича (Амбодика), – с Михаилом Трахимовским (иначе Трохимовским).
Последнему, по нашему твердому убеждению, удалось сыграть весьма выдающуюся роль при рождении замечательного русского писателя – Николая Васильевича Гоголя. Можно даже сказать, что этот писатель вообще появился на свет благодаря лишь его, Михаила Трахимовского (Трохимовского), неусыпным стараниям… Поскольку – именно ему удалось обеспечить юную мать будущего писателя особым помещением в виде отдельно стоящего домика, находившегося в личном саду этого, весьма чадолюбивого врача и отца собственных, незабвенных для него детей…
Однако мы забежали несколько вперед.
Потому что первоначальной ступенькой в образовании нашего героя стал некий коллегиум, размещенный еще в губернском городе Чернигове, на просторной тамошней площади, как раз напротив захоронения первого легендарного черниговского князя Черного: на берегу красавицы Десны. Это учебное заведение как раз и оставило в его душе самые приятные о себе воспоминания…
А еще лучше дела у него пошли у него в старинной Киевской академии. Достаточно только сказать, что по результатам первого года же обучения в этом учебном «закладi» (учебном заведении), как тогда говорилось строго на украинской мове (языке), еще довольно юного летами Данилу Сушковского сразу же перевели в старший класс.
В той же, Киевской академии, собирались молодцы со всех концов Украины, России, из Венгрии, Чехии, даже из Польши…
Да и весь полный курс обучения в Киеве в ней был рассчитан на долгих двенадцать лет. Так что всему успевали обучиться ученики академии за столь продолжительное, даже неимоверно долгое время.
При этом также не стоит забывать, что определенной премудрости набирался в ней и «наш первый университет», как назвал его еще наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Разумеется, мы имеем в виду Михаила Васильевича Ломоносова…
И надо же было такому случиться, что при поступлении в Киевскую академию, Агафья Сушковская, родная мать нашего героя, почему-то записала его Самойловичем…
Об этой обмолвке, точнее, – совсем неожиданном поступке матери героя нашего рассказа, – нам уже исключительно трудно судить. Может, это была какая-то уловка с ее стороны, поскольку ей очень хотелось, чтобы фамилия бывшего гетмана-неудачника Ивана Самойловича Самойловича – как-то вдруг да всплыла на поверхность…
Однако, с другой стороны, это были годы правления Елизаветы Петровны, дочери того самого Петра Великого, который явно недолюбливал этого, усато-волосатого пана гетмана с его очень хитрющими глазами. Впрочем, быть может, так только казалось ему, потому – что он единственный раз лишь видел его. Однако, именно с его лукавого позволения не менее хитрый Иван Степанович Мазепа и «подсидел» своего прежнего руководителя… Последовал на него какой-то тайный донос в Москву к тамошним русским государям… Короче говоря, Иван Самойлович был арестован, еще в 1685 году, при несовершеннолетнем еще будущем самодержце России, отправлен в Нижний Новгород, а скончался он – уже тоже в далекой Сибири, еще в 1690 году…
Могла ли скрываться за этим поступком какая-то слишком романтическая история, вроде выкраденной невесты-девушки Агафьи не менее бравым поповичем Самуилом Сушковским (или Сущинским), – нам теперь уже решительно ничего неизвестно.
Хотя…
По правде сказать, все это было в духе удалого тогдашнего, старинного времени. Именно так поступил в те годы и дед писателя Гоголя, Афанасий Демьянович. Он выкрал свою невесту прямо из-под носа ее отца, такого же малорусского вельможи, прослывшего к тому же сочинителем самых разнообразных стихов – именно Семена Лизогуба. Впрочем, и сама она, эта дочь, навечно осталась в истории русской литературы под видом таинственной Пульхерии Ивановны из еще более загадочной повести своего не менее прославленного внука. Она стала главной героиней его повести «Старосветские помещики»…
Не исключено также, что Агафья Сушковская (или Сущинская) действовала по присущей ей издавна прихоти. Ведь когда-то, даже бывалые запорожцы, когда принимали их в некое братство, – в Запорожскую Сечь, к примеру, – тоже обыкновенно меняли свои прозвания… Был он, скажем, неизвестным дотоле Максимом Задерихвостом, а становился теперь уважаемым всеми Мосием Шилом…
Так что…
Все могло быть…
Напомним только себе, что проучился Даниил Самойлович в Киевской академии всего четыре года, начиная с 1761 года, а заканчивая 1765.
Там же, в Киевской академии, все они – и юный Самойлович, и Трахимовский, Италинский, были отобраны, по преданию, приехавшим на летние каникулы Иваном Андреевичем Полетикой. В стенах академии оставался один лишь Нестор Максимович Максимович, будущий профессор повивального дела, – иначе Амбодик.
А все это проделано было с целью дальнейшего обучения их, то ли в первопрестольной русской столице, в городе Москве, то ли в новой русской столице – уже в каком-то слишком загадочном городе Санкт-Петербурге.
На двадцати шести безудержно говорливых телегах, все они были доставлены поначалу в малороссийский город Глухов, чтобы предстать там перед глазами украинского важного пана гетмана. Им же являлся в ту пору всесильный граф Кирилл Григорьевич Разумовский…
Потом их всех увезли в Москву, чтобы из этого города – отправить в какой-то безмерно далекий, особенно – для малорусского уха, столичный Санкт-Петербург, или «Бурх» – иначе.
Кто-то из них так и остался в Москве, однако сам Данило Самойлович всеми силами стремился дальше, в направлении севера.
И это ему вполне удалось.
Все у него получилось, как и у прочих людей, сильно стремящихся к обретению новой профессии…
Одним словом, еще в ноябре 1761 года, будучи еще только семнадцатилетним, а то и даже помладше возрастом, если придерживаться другой версии насчет подлинного года его рождения, – Данило Самойлович Самойлович был записан в ученики санкт-петербургского Адмиралтейского госпиталя, чтобы воспользоваться всеми тамошними привилегиями своего неожиданного зачисления в эту лекарскую школу.
С тех пор он терпеливо высиживал все лекции, сдавал все третные экзамены, еженедельные даже зачеты… Чтобы, наконец, удостоиться заветного лекарского диплома.
Здесь необходимо сразу заметить, что адмиралтейский госпиталь обслуживал моряков и работников всех петербургских верфей, начиная еще с 1716 года. Исходя из этого – работы ему хватало…
Свой диплом Самойлович защитил в 1767 году, однако получил только лишь через год, уже в 1768. Все дело в том, что необходимо было сделать несколько операций, исполненных, к тому же, на сильно испорченном, даже окоченевшем и слишком остро попахивающем трупе. Потому-то и оставался он при своей лекарской школе еще в продолжение целого года.
Что же, надо полагать, он и это проделал, да еще и по всем надлежащим правилам и требованиям.
После завершения всей врачебной науки при санкт-петербургском госпитале, Данило Самойлович начал службу в достаточно отдаленном от Санкт-Петербурга Копорском пехотном полку, расположенном в Новой Ладоге.
Этот полк, говорили о нем старослужащие, был основан еще по прямому указу Петра I.
В самом начале августа 1768 года, точнее, – 5 числа этого месяца, он отсылает по начальству рапорт, что уже приступил к работе в своем полковом лазарете.
Вскорости, причем как-то сразу, началась очередная война с Оттоманскои империей.
Она продолжалась долго, целых семь лет, с 1768 года, до конца 1774. Вплоть до того момента, когда личный секретарь императрицы Екатерины II, граф Александр Андреевич Безбородко, не уселся в свой дорожный возок и не отправился самолично для заключения с Турцией так называемого Кучук-Кайнаджирского мира – или даже Кючук-Кайнаджирского. Произносили его в ту пору так и этак.
Собственно, сам будущий граф Безбородко и начинал всю эту войну. Командовал в ней настоящим армейским подразделением (сначала это были знакомые ему до боли просто казацкие полки, а затем – и регулярный царский полк).
Кстати, там же он и отличился он, когда штурмовал турецкие позиции под ни за что не сдающейся Силистрией. После всего этого и рекомендован был самим графом Румянцевым царице Екатерине II – как очень дельный ее секретарь, ничего никогда не забывающий. Правда, к тому времени – сам он пребывал уже чине полковника…
А уж при императоре Павле I указанный граф Безбородко, в виде какой-то особой заслуги перед этим самим императором, становится даже государственным канцлером всей Российской империи…
Однако мы опять же несколько опередили естественный ход событий.