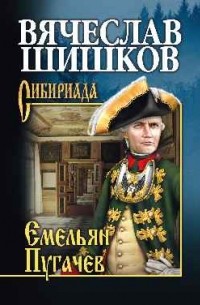Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Петр III продолжал делать политические промахи.
Так, в три полка гвардии, где по давнишним традициям считался полковником лишь сам царствующий монарх, были назначены полковники: в Преображенский – князь Никита Трубецкой, в Семеновский – граф Кирилл Разумовский, в Конногвардейский – только что вызванный в Россию и неневидимый гвардией дядя государя, принц Жорж (Георг) Голштинский.
Этим актом Петр умышленно нанес всей гвардии удар, не забываемое оскорбление. Возмущенные сторонники Екатерины, копя в душе злобу, открыто ликовали. «Эта сугубая затрещина даром государю не пройдет», – мрачно предрекал Григорий Орлов.
Граф Роман Воронцов, отец «Лизки-султанши», своекорыстно обольщался, что дочь его, столкнув Екатерину, станет сама императрицей. Он больше всех скорбел о том, что Петр даже в столь короткие дни царствования успел восстановить против себя многих. По-родственному советуясь со своим братом Михаилом Воронцовым, великим канцлером, он все время нашептывал царю:
– Ваше величество, вам надлежит проявить некий акт монаршей милости, дабы обратить на себя взоры подданных и прилепить сердца их к своей особе.
Царь не знал, в чем же должен заключаться этот высокий акт. Роман Воронцов нашептывал: надо-де возвратить кой-кого из ссылки, надо-де даровать «вольности дворянству», то есть чтоб навсегда избавить дворян от службы обязательной, как бывало прежде, а нести дворянам службу по своей воле, сколько и где они пожелают.
– Особливо же, государь, надлежит вам вспомнить о мужиках Подлый народ также должен благословлять священное имя вашего величества. Объявите, государь, таковую милость, коя коснулась бы всех людишек мелких. Таковой высочайшей милостью могло бы быть уменьшение цены на соль. Правда, оная мера отчасти подорвет доходы государственные, но сие поправимо: с течением времени, когда ваше имя в народе довольно укрепится как имя благодетеля, можно цену на соль паки с постепенностью накинуть.
17 января царь в парадной карете прикатил со свитой в Сенат, пробыл здесь два часа, подписал заготовленный указ о возвращении из ссылки Менгдена, семьи Лилиенфельдов, Лопухиной и знаменитого выходца из Пруссии фельдмаршала Миниха, смелого политического интригана, сосланного покойной Елизаветой в Сибирь. Затем «соизволил указать»: продажную цену на соль наложить самую умеренную.
25 января 1762 года, то есть спустя месяц после смерти, состоялись похороны Елизаветы. Тело на поклонение народу было выставлено в огромном тронном зале, занимавшем целый флигель, пристроенный к деревянному дворцу. Пышностью своей отделки этот двухсветный зал восхищал даже иностранцев. Веселая Елизавета очень часто устраивала здесь маскарады, в коих участвовало до полутора тысяч масок. В одну минуту зажигалось не менее десяти тысяч свечей. Огни отражались в венецианских зеркалах. По залу под музыку двигалось в шикарных костюмах множество масок, отплясывая кадриль, менуэт и прочие танцы. В соседней комнате веселая Елизавета играла в фараон или пикет, а к десяти часам удалялась в свои покои, чтоб сменить костюм и надеть маску. Затем снова появлялась в зале, отплясывая до пяти-шести часов утра. Обладая красивыми ногами и сильным корпусом, она любила наряжаться в костюм пажей или средневековых рыцарей.
А вот теперь веселая Елизавета лежит в гробу на возвышенном месте, под богатым балдахином с золотой кованой парчой и горностаевым, до земли, спуском. Она лежит в серебряной глазетовой робе с кружевными рукавами. Несмотря на благовонные курения, в зале слегка попахивает трупом. Статс-дамы и фрейлины, размещенные по рангам, стоят в глубоком трауре, окружая одр Елизаветы. Митрополит Дмитрий Сеченов и духовенство в черных ризах готовы начать заупокойное моление. Присутствуют все сановники, все чины двора.
Величественно вошла невысокая, в глубоком трауре, печальная Екатерина. Все взоры разом обратились к ней. Красивый паж нес за царицей сделанную Позье золотую корону. Отвечая на поклоны, она поднялась к изголовью гроба и стала возлагать корону на слегка вспухшую голову покойницы. Но корона не налезала. Печальная Екатерина, выразив на лице мину христианского смирения, усмотрела среди толпы толстобрюхого, на коротких ножках, ювелира и подала знак помочь ей. Застигнутый врасплох, Позье поспешно скорчил слезливую гримасу, с отменной грациозностью приблизился к смертному одру, вытащил из кармана щипчики и мигом приладил корону куда надо.
Началась торжественная панихида, закурились клубы ладана. Молящиеся чинно стояли с возжженными свечами, а Петр, нарушая благолепие, расхаживал, как журавль, меж рядами дам, болтая то с одной, то с другой из них по-французски вслух, кривлялся, подмигивал в сторону духовенства, говоря: «Бородатые козлы… Я их всех прикажу обрить». Среди молящихся поднялся ропот… Митрополит Дмитрий Сеченов, взглянув через плечо на игривого царя, грозно нахмурил брови, но Петр показал митрополиту язык и повернул к нему спину.
Наконец тело повезли на золоченой колеснице из дворца через Неву в Петропавловскую крепость. Несметное стечение народа, шпалерами вдоль всего пути стоят войска, в воздухе цение, музыка, унылый перезвон колоколов и вьюжный ветер с моря.
За траурной колесницей впереди всех следует император, за ним, отступя на двадцать шагов, Екатерина и далее вместе с церемониймейстером, бароном Лефортом, вся сановная знать, чинно, по рангам. Император в черной траурной епанче с белыми орлами; длинный шлейф епанчи несут, поддерживая, старшие камергеры. Малая голова императора с детским личиком покрыта треуголкой. Но под этой большой шляпой нет здравых мыслей, есть порхающие, как мотыльки, обрывки мыслишек и воспоминаний. «Да-да-да, – думает он, – тетушка пыталась меня отправить в баню, в русскую, в русскую. Фе-е-е… А… я… я… ненавижу баню, я умру от бани…» И мысли его перескакивают в Голштинию. «Меня преследуют с самого детства. Рок, судьба… Мой воспитатель Броммер, там, в Голштинии… он топал на меня, мальчишку, стращал меня: „Я вас так велю высечь, – говорил он, – что собаки будут кровь лизать. Как я был бы рад, чтоб вы сейчас же издохли“. Да как он смел это говорить? Ах он свинья…»
– Молчать, молчать! – вскрикивал на ходу император, и мысль его тотчас переносилась на другое. Ветер дул с моря, косичка за спиной самодержца моталась, шлейф епанчи, поддерживаемый шеренгой камергеров, надувался под ветром. Император повернул голову вправо-влево, покосился назад: приподнятый над землей конец шлейфа нес высокий и тучный граф Шереметев, обер-камергер двора. Император скорчил рожу, прыснул и неожиданно остановился. И все, кто сзади, – печальная Екатерина, свита, весь кортеж – тоже в недоумении остановились. А колесница с гробом, духовенство, регалии, венки, многочисленные депутации с хоругвями и прочие продолжали двигаться усыпанной можжевельником дорогой по льду через Неву. Император гримасничал и, озоруя, делал четкий шаг на месте. Отпустив колесницу сажен на тридцать, он командовал:
– Бегом марш! – и что есть духу мчался догонять процессию.
Камергеры, вместе с графом Шереметевым поддерживающие епанчу, мчались вслед за императором. Шереметев на бегу сопел, выкатывал глаза. Ожиревшим камергерам нет сил поспевать за ледащим и легким государем. Они бросили епанчу, остановились, отирали пот, пыхтели, ловя ртом воздух. Почувствовав свободу, император несся подобно крылатому коню. Подхваченный ветром пятнадцатиаршинный шлейф сразу взвился в пространство и шлепал и прихлопывал в воздухе, как парус в бурю. Император хохотал.
– Я озяб, озяб… Надо же погреться, господа, – говорил он подоспевшим камергерам.
Те опять взялись за шлейф, колесница отдалилась на изрядную дистанцию и – снова бег, снова шлепал, плескался черный парус. На невском временном мосту дубом стоявшие в своих санях купцы и кучки ротозеев тыкали в бегущего монарха перстами, удивленно пучили глаза, пересмехались:
– Глянь, братцы, глянь! Кажись, царек-то наш ума рехнулся…
Как сказочный черт на черных крыльях, царь догнал золотую колесницу, оглянулся: задохнувшийся Шереметев упал и ходил по снегу на четвереньках, камергеры, сгорая от стыда, поспешали к императору. Самодержец хихикал про себя.
Екатерина, а за ней вся процессия далеко отстали от колесницы с гробом. Екатерина злилась и бледнела. Когда самодержец всероссийский припустился в третий раз, Екатериною был послан конный адъютант остановить процессию.
Через два часа с верхов крепости раздался пушечный салют, потрясший воздух: прах Елизаветы предали земле. Император во время салюта поморщился и хвастливо заявил свите, что он-де вскорости прикажет дать залп из ста осадных пушек, ха!.. Озлобленный Шереметев осмелился заметить, что от такого залпа рухнут в столице все дома. Царь заморгал на него правым глазом и немилостиво произнес:
– Вы, граф, ничего не смыслите. Вы даже бегаете, как корова… Я приму меры научить вас… Я всех вас буду учить экзерциции… Муштра, муштра!.. Ежедневно… Да-с!..
В этот день по кабакам, питейным, в домах и всюду – только и разговоров было, что о чудачествах молодого государя. Мальчишки, на потеху взрослых, играли по дворам и переулкам в похороны: царь бегал с рогожей за плечами, Шереметев падал.
Вечером помрачневший Петр вошел, пошатываясь, в покои жены.
– Нет, нет, – начал он хриплым голосом, то вскидывая руки к лицу, то опуская их, – я не подхожу для русских… И русские – для меня… Я убежден, что погибну здесь.
– Не поддавайтесь этой фатальной идее, – ответила Екатерина, – и старайтесь заставить каждого в России любить вас. А вы как сегодня вели себя?
Петр скривил гримасу и, нечаянно икнув, сказал: «Пардон, мадам». Екатерина наморщила нос, подняла брови:
– Идите спать. От вас пахнет водкой. Фи!
Петр повернулся и ушел.