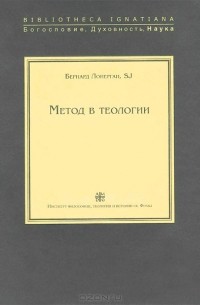Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4. Символы
Символ – это образ реального или воображаемого объекта, который пробуждает чувство или пробуждается чувством.
Чувства связаны с объектами, друг с другом и со своими субъектами. Они связаны с объектами: человек испытывает потребность в пище, боится боли, наслаждается обедом, сожалеет о болезни друга. Чувства связаны друг с другом через изменения в объекте: человек желает отсутствующего блага, надеется на мыслимое благо, радуется наличному благу; он боится отсутствующего зла, замирает при его приближении, мрачнеет в его присутствии. Чувства также связаны между собой через личные отношения: так, любовь, мягкость, нежность, близость, единение идут рука об руку; сходным образом группируются отчуждение, ненависть, грубость, насилие, жестокость. Есть и такие последовательности, как обида, неповиновение, суд и наказание, или, опять-таки, обида, раскаяние, извинение, прощение. Кроме того, чувства могут вступать в конфликт друг с другом, но, тем не менее, присутствовать одновременно: человек может желать вопреки страху, надеяться вопреки надежде, мешать радость с грустью, любовь с ненавистью, близость с жестокостью, единение с отчуждением. Наконец, чувства связаны со своим субъектом: они суть средоточие, момент, сила его сознательной жизни, актуализация его аффективных возможностей, расположений, привычек; действенные ориентиры его бытия.
Одни и те же объекты не обязательно пробуждают одни и те же чувства в различных субъектах; в свою очередь, одни и те же чувства не обязательно пробуждают одни и те же символические образы. Это различие в аффективных ответных реакциях можно объяснить различиями возраста, пола, образования, жизненного положения, темперамента, экзистенциальной заботы. Но если говорить в более фундаментальном смысле, человеческое существо развивается в своих аффектах, и это развитие может подвергаться аберрациям. История этого процесса и есть то, что в конце концов определяет жизненные ориентиры личности, ее аффективные возможности, расположения и привычки. Что именно представляют собой эти аффективные возможности, расположения и привычки в данном конкретном индивиде, определяется символами, пробуждающими определенные аффекты, или, наоборот, аффектами, пробуждающими определенные символы. И вновь, исходя из некоторых допущений относительно нормальности, можно прийти к выводу о том, являются ли ответные реакции данного конкретного индивида нормальными или нет.
Символы, имеющие одинаковую аффективную направленность и расположение, с аффективной точки зрения не дифференцированы. Поэтому они взаимозаменяемы и могут сочетаться друг с другом, что повышает их интенсивность и уменьшает неоднозначность. В этой способности к комбинированию и организации выражается различие между эстетическим и символическим: мифические чудовища неестественны. Далее, сочетанные аффекты требуют сочетанных символов, причем каждый член сочетания может быть конгломератом недифференцированных или слабо дифференцированных символов. Так, св. Георгий и змий одновременно представляют все ценности восходящего символизма и все антиценности его противоположности. Св. Георгий сидит, но сидит высоко на коне; он облечен в свет и волен пустить в ход свое оружие: одной рукой он направляет коня, а другой нацеливает копье. Но он может упасть и быть раздавлен чешуйчатым чудовищем, может быть ослеплен его дымом, сожжен его огнем, растерзан его зубами, пожран его утробой.
Аффективное развитие или его аберрация включают в себя переоценку и трансформацию символов. Что раньше трогало, теперь не трогает; что раньше не трогало, трогает теперь. Так сами символы изменяются, чтобы выразить новые аффективные возможности и расположения. Например, победа над страхом способна низвести змия до ничтожной выдумки; но отныне она по смыслу становится продолжением притчи об Ионе: чудище, пожравшее тонущего человека, через три дня извергло его на берег невредимым. Напротив, символы, не способные к переоценке и трансформации, видимо, указывают на блокировку развития. Для ребенка и для взрослого человека страх темноты имеет разный смысл.
Символы подчиняются законам не логики, а образа и чувства. Для логического класса символ использует репрезентативную фигуру. Унивокальность он замещает богатством множественного смысла. Символ не предлагает доказательств, а порождает множество образов, совокупностью которых и созидается смысл. Символ не склоняется перед принципом исключенного третьего, но допускает coincidentia oppositorum [совпадение противоположностей]: любви и ненависти, отваги и страха и т. д. Он не отрицает, а превозмогает все то, что отвергает, провоцируя все, что ему противоположно. Он функционирует не на какой-то одной траектории или одном уровне, но сосредоточивает в причудливом единстве все свои наличные соотнесенности.
Таким образом, символ властен принимать и выражать то, что отвергается логическим дискурсом: существование внутренних напряжений, несовместимостей, конфликтов, борьбы, деструкций. Разумеется, диалектическая или методологическая позиция способна объять конкретное, противоречивое и динамичное. Но символ делает это еще до того, как логическое или диалектическое будут помыслены. Он делает это для тех, кто не знаком с логикой и диалектикой. Наконец, он делает это, дополняя и восполняя логику и диалектику, ибо удовлетворяет потребность, которую эти утонченные формы удовлетворить не могут.
Это потребность во внутренней коммуникации. Органическая и психическая витальность обязательно должна явить себя интенциональному сознанию, и наоборот: интенциональное сознание должно обеспечить сотрудничество организма и души. Далее, постижение ценностей тоже совершается в интенциональных ответах, в чувствовании: здесь тоже существует необходимость в том, чтобы чувства явили свои объекты, а объекты, напротив, пробуждали чувства. Именно посредством символов сообщаются между собой сознание и тело, сознание и сердце, сердце и тело.
В этой коммуникации символы обладают собственным смыслом. Это элементарный, еще не объективированный смысл: например, смысл улыбки, предшествующий феноменологии улыбки, или смысл в чисто опытном паттерне, предшествующий своему выражению в произведении искусства. Это смысл, который выполняет свою функцию в воображении или восприятии субъекта, когда его сознательная интенциональность развивается, или блуждает, или то и другое одновременно; когда субъект занимает позицию по отношению к природе, другим людям и Богу. Это смысл, который обладает собственным контекстом в процессе внутренней коммуникации, где ему доводится функционировать; именно к этому контексту, с его взаимосвязанными образами и чувствами, памятованиями и устремлениями, должен обратиться интерпретатор в попытке объяснить символ.
Объяснить символ означает идти по ту сторону символа. Это означает совершать переход от элементарного смысла в образе или перцепте к языковому смыслу. Более того, это означает использовать контекст языкового смысла в качестве арсенала возможных отношений, ключей, подсказок в конструировании элементарного контекста символа. Но таких интерпретативных контекстов много, и, возможно, только эта множественность и отражает множество путей, какими способно развиваться или страдать от отклонений человеческое существо.
Итак, имеются три исходные интерпретативные системы: психоанализ Фрейда, индивидуальная психология Адлера и аналитическая психология Юнга. Но их изначальная жесткость и взаимная оппозиционность все в меньшей степени соблюдаются их преемниками. Шарль Бодуэн разработал психагогию, которая рассматривает Фрейда и Юнга как не противостоящих друг другу, а дополняющих друг друга: она опирается на Фрейда в обращении к причинным объектам и на Юнга во внимательности к субъективному развитию. Видимо, именно эту взаимодополнительность поддерживает Поль Рикёр в своем обширном исследовании, где приходит к выводу, что фрейдовская мысль является археологией субъекта, которая с необходимостью подразумевает стимулирующую телеологию, не признавая ее открыто. Кроме того, среди психотерапевтов распространена тенденция к разработке собственных систем интерпретаций или к тому, чтобы рассматривать интерпретацию как искусство, которому нужно учиться. Наконец, есть и те, кто считает, что терапевтических целей достигнуть легче, если вообще отказаться от интерпретации символов. Так, Карл Роджерс полагает своей целью создать для пациента межличностную ситуацию, в которой тот сможет постепенно прийти к самораскрытию. На противоположном полюсе Фрэнк Лэйк основывает свою теорию на учении Павлова и применяет препарат ЛСД-25 к пациентам, которые благодаря этому обретают способность вызывать из памяти и вновь переживать травмы, от которых страдали в раннем детстве.
Наряду с этим, сходным образом складывалась ситуация и вне терапевтического контекста. Фрейд предложил не только метод лечения, но и в высшей степени умозрительную концепцию внутренней структуры человека, а также природы цивилизации и религии. Но это распространение терапевтического контекста на человеческую жизнь в целом сопровождалось формированием не-терапевтических контекстов изучения и толкования символов. Отравляясь от трех доминирующих рефлексов – прямохождения, глотания пищи и спаривания, – Жильбер Дюран пришел к упорядочению обширных массивов символических данных, к уравновешиванию одной организации другой, ей противоположной, и к синтезу через чередование обеих организаций. Мирча Элиаде во множестве своих трудов собрал, сопоставил, объединил и объяснил символы первобытных религий. Нортроп Фрай обратился к циклам дня и ночи, четырех времен года, к цикличности роста и дряхления организма, чтобы сконструировать матрицу, из которой можно было бы вывести символические нарративы литературы. Психологи обратились от больных к здоровым, точнее, к тем, кто продолжает расти на протяжении всей жизни, и задались вопросом, действительно ли душевные заболевания принадлежал исключительно к медицинскому контексту, действительно ли проблему составляет реальная вина, а не ошибочное чувство вины. Наконец, что с базовой точки зрения важнее всего, существует экзистенциальный подход, согласно которому сон есть не сумерки жизни, а ее рассвет, начало перехода от безличного существования к присутствию в мире, к конституированию человеком собственной самости в собственном мире.