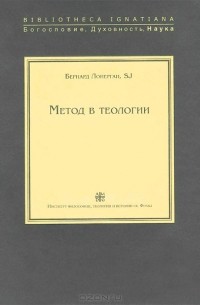Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
6. Структура человеческого блага
Человеческое благо индивидуально и в то же время социально, и теперь мы должны обрисовать тот способ, каким эти два аспекта сочетаются друг с другом. Мы сделаем это, выбрав восемнадцать терминов и постепенно связав их между собой.
Наши восемнадцать терминов имеют в виду: 1) индивидов, их возможности и действия; 2) взаимодействующие группы; 3) цели. Тройное членение целей позволяет осуществить тройное членение в других категориях, что приводит к следующей схеме.
Во-первых, мы связываем воедино четыре термина из первой строки: способность, действие, частное благо и потребность. Итак, индивиды обладают способностью к действию. Действуя, они доставляют себе моменты частного блага. Под моментом частного блага здесь понимается любое сущее, будь то объект или поступок, которое отвечает потребности конкретного индивида в данном месте и в данное время. Потребности надлежит понимать в самом широком смысле, не ограничивая их жизненно необходимыми потребностями, а, наоборот, расширяя их и включая в них всякого рода желания.
Во-вторых, связываются между собой четыре термина из третьей колонки: сотрудничество, институция, роль и задача. В самом деле, индивиды живут группами. Их оперирование в значительной мере есть кооперирование. Отсюда следует некий установленный паттерн, фиксируемый ролью, которую надлежит исполнять, или задачей, которую надлежит решать в определенных институциональных рамках. Этими рамками служат семья и нравы, общество и образование, государство и право, экономика и технология, Церковь или секта. Они образуют общепризнанный и всеми принятый базис и способ сотрудничества. Как правило, они изменяются очень медленно, поскольку изменение, в отличие от крушения, подразумевает новое общее понимание и новое общее согласие.
В-третьих, следует связать между собой оставшиеся термины из второй строки: пластичность, способность к совершенствованию, развитие, умение и благоустроение. Итак, способности индивидов к действию, будучи пластичными и восприимчивыми к совершенствованию, допускают развитие умений, а именно, тех самых умений, которые необходимы для выполнения институциональных ролей и задач. Но, помимо институционального базиса сотрудничества, имеется также конкретный способ выражения сотрудничества. Одна и та же экономическая структура совместима с процветанием и спадом. Одни и те же конституциональные и правовые установления допускают широкий спектр различий в политической жизни и в отправлении правосудия. Сходные брачные и семейные правила в одних случаях приносят в дом счастье, а в других – беду.
Этот конкретный способ, каким выражает себя сотрудничество, и есть то, что подразумевается под благоустроением. Это благо отличается от моментов частного блага, но не отделено от них. При всем том оно имеет их в виду не порознь, в их соотнесенности с индивидами, которых они удовлетворяют, а в совокупности и повторяемости. Мой сегодняшний обед служит для меня моментом частного блага; но ежедневный обед для всех получающих его членов группы составляет часть благоустроения. Точно так же мое образование является для меня частным благом; но для всякого, кто хочет его получить, образование составляет часть благоустроения.
Однако благоустроение не сводится к устойчивой последовательности типов частного блага, взятого в его повторяющихся моментах. Помимо этой повторяющейся множественности, имеется еще порядок, придающий ей устойчивость. В основном он подразумевает: 1) упорядочение операций, благодаря чему они представляют собой моменты кооперации и обеспечивают повторяющийся характер всех действительно желанных моментов частного блага; 2) взаимозависимость действенных желаний или решений, вкупе с их надлежащим осуществлением силами сотрудничающих индивидов.
Следует подчеркнуть, что благоустроение – не проект утопии, не умозрительный идеал, не набор этических заповедей, не правовой код и не сверх-институция. Благоустроение вполне конкретно: это актуально функционирующий или не функционирующий набор отношений типа «если… то…», – отношений, которые руководят операторами и координируют операции. Он служит основанием повторяемости или не-повторяемости, в силу чего любые моменты частного блага воспроизводятся или не воспроизводятся. Благоустроение опирается на институции, но есть продукт гораздо большего: всех умений и навыков, всех усилий и изобретательности, всего трудолюбия и взаимопонимания народа в целом, который приспосабливается к любому изменению обстоятельств, подхватывает любое новое начинание, борется с любыми тенденциями, ведущими к хаосу.
Остается третий ряд терминов: свобода, ориентация, пересмотр, личные отношения и внутренние ценности. Свобода означает, разумеется, не отсутствие определения, а самоопределение. Любое индивидуальное или групповое действие есть не более чем ограниченное благо, и, будучи ограниченным, оно открыто критике. Оно имеет свои альтернативы, свои пределы, свои риски, свои помехи. Соответственно, процесс обдумывания и оценки сам по себе не является решающим. Мы переживаем свою свободу как активную веру в себя со стороны субъекта, который завершает процесс обдумывания выбором одного из возможных способов действия и переходом к его практическому осуществлению. Именно в той мере, в какой эта вера в себя регулярно выбирает не просто кажущееся, но истинное благо, «я» достигает морального самотрансцендирования: оно живет подлинной жизнью, конституирует себя как порождающую ценность и созидает конечные ценности: благоустроение, которое есть истинное благо, и моменты частного блага, которые тоже суть истинные блага. С другой стороны, в той мере, в какой решения человека в основном обусловлены собственными мотивами, неудача в самотрансцендировании, в подлинно человеческом существовании, в порождении ценности в себе и в своем обществе объясняется не ценностями, о которых идет речь, а неверной оценкой соответствующих удовольствий и страданий.
Свобода осуществляется в рамках матрицы личных отношений. В сообществе, основанном на сотрудничестве, личности связаны друг с другом своими потребностями и общим благоустроением, сообразным их потребностям. Они связаны друг с другом свободно взятыми на себя взаимными обязательствами и ожиданиями, которые ими обусловлены; они связаны друг с другом принятыми на себя ролями и задачами, которые надлежит осуществить. В норме эти отношения одушевляются чувствами. Существуют единодушные или противоположные чувства относительно некоторых качественных ценностей или шкал предпочтений. Существуют взаимные чувства, когда один отвечает другому как некоей онтической ценности или источнику удовлетворения. За чувствами стоит сама субстанция сообщества. Людей объединяет общий опыт, общность или взаимодополнительность прозрений, сходство суждений о фактах и ценностях, близость жизненных ориентиров. Люди разъединены, чужды и враждебны друг другу, когда они теряют контакт между собой, когда не понимают друг друга, когда судят об одном и том же по-разному, когда выбирают противоположные социальные цели. Таким образом, личные отношения варьируются от интимной близости до игнорирования, от любви до эксплуатации, от уважения до пренебрежения, от дружественности до враждебности. Они либо связывают сообщество воедино, либо разделяют его на части, тянут его в разные стороны. Внутренние ценности – это выбранные ценности: истинные моменты частного блага, истинное благоустроение, истинная шкала предпочтений применительно к ценностям и способам удовлетворения. С внутренними ценностями коррелируют порождающие ценности, которые и осуществляют выбор: это – подлинные личности, достигающие самотрансцендирования через акты правильного выбора. Поскольку человек способен познавать и выбирать подлинность и самотрансцендирование, постольку порождающие и внутренние ценности могут совпадать. Когда каждый член сообщества стремится к подлинности в себе и по мере возможности содействует этому в других людях, тогда порождающие ценности – те, что совершают выбор, – и конечные ценности, которые служат предметом выбора, соответствуют друг другу и переплетаются друг с другом.
Теперь мы должны были бы сказать об ориентации сообщества в целом. Но в данный момент нас заботит ориентация индивида внутри ориентированного сообщества. Эта ориентация коренится в трансцендентальных идеях, которые требуют от нас способности и наделяют нас способностью продвигаться в постижении, судить по истине, соответствовать ценностям. Но эта возможность и это требование становятся действенными только через развитие. Человек должен приобрести умения и знания от кого-то другого, компетентного в определенном роде занятий. Человек должен возрастать в восприимчивости к ценностям и в соответствии им, если он хочет обладать подлинно человеческой природой. Но развитие не есть неизбежная необходимость, и поэтому его результаты могут быть разными. Бывают и неудачники, и посредственности. А бывают и те, кто неустанно развивается и возрастает на протяжении всей жизни. Их достижения варьируются сообразно их изначальному багажу, их жизненным возможностям, их удачливости в избегании ловушек и провалов, отсутствию препятствий в их продвижении вперед.
Если ориентация представляет собой, так сказать, направление развития, то пересмотр – это перемена направления, причем перемена к лучшему. Человек освобождается от неподлинного. Он возрастает в подлинности. Вредоносные, рискованные, обманчивые удовлетворения отбрасываются. Опасения дискомфорта, страдания, лишенности уже не столь легко сбивают его с пути. Ценности усматриваются там, где их раньше не замечали. Шкала предпочтений смещается. Заблуждения, рационализации, идеологии рушатся и разбиваются, человек открывается навстречу вещам, каковы они есть, и человеку, каким он должен быть.
Таким образом, человеческое благо индивидуально и в то же время социально. Индивиды, строго говоря, не трудятся ради удовлетворения своих потребностей, а сотрудничают ради удовлетворения потребности другого. Подобно тому, как сообщество развивает свои институции для облегчения сотрудничества, так индивиды развивают свои умения для выполнения ролей и решения задач, поставленных в институциональных рамках. Хотя роли выполняются и задачи решаются для удовлетворения потребностей, все это совершается не вслепую, но осознанно, не по необходимости, а свободно. Этот процесс подразумевает не только служение человеку, но, прежде всего, созидание человека, возрастание в подлинности, осуществление его аффективности, нацеленность его труда на частные блага и на благоустроение, которые этого стоят.