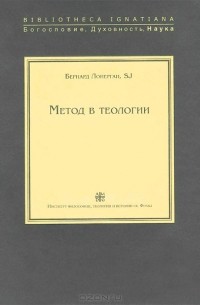Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2. Чувства
От операционального развития отличается развитие чувствований. В этом вопросе я опираюсь на Дитриха фон Гильдебранда и отличаю не-интенциональные состояния и стремления от интенциональных ответов. Примерами не-интенциональных состояний могут служить такие состояния, как усталость, раздражительность, подавленность, тревога; примерами не-интенциональных стремлений – такие стремления или потребности, как голод, жажда, сексуальный дискомфорт. У состояний есть причины, у стремлений есть цели, но отношение чувствования к причине или цели – это просто отношение следствия к причине или стремления к цели. Само чувствование не предполагает и не исходит из восприятия, воображения, представления причины или цели. Скорее человек сначала чувствует себя усталым, а лишь затем, возможно, понимает, что ему нужен отдых. Или сначала человек ощущает голод, а потом осознает, что его состояние вызвано недостатком пищи.
Напротив, интенциональные ответы отвечают на то, что является объектом интендирования, схватывания, представления. Чувствование связывает нас не просто с причиной или конечной целью, но с объектом. Такие чувства придают интенциональному сознанию плотность, напористость, энергию, мощь. Без таких чувств познание и принятие решений были бы хрупкими, как бумага. Благодаря нашим чувствам – нашим желаниям и опасениям, надеждам и отчаяниям, радостям и печалям, восторгам и возмущениям, уважению и презрению, доверию и недоверию, любви и ненависти, нежности и грубости, нашему восхищению, почитанию, благоговению или страху, ужасу, трепету, – мы решительно и динамично обращены к миру, опосредованному смыслом. Мы испытываем чувства по отношению к другим людям, мы нечто чувствуем к ним и вместе с ними. Мы испытываем чувства по отношению к своим жизненным ситуациям, к прошлому и будущему, ко злу, о котором следует сожалеть или которое следует исправить, и добру, которое может, должно, обязано совершиться.
Чувства, которые представляют собой интенциональные ответы, затрагивают два класса объектов: с одной стороны, это приятное или неприятное, удовлетворяющее или неудовлетворяющее; с другой стороны, это ценности, будь то онтическая ценность личности или качественная ценность красоты, понимания, истины, добродетельного поступка, долга чести. Говоря обобщенно, ответ на ценности ориентирует нас на самотрансцендирование и в то же время осуществляет выбор объекта: того или чего, ради кого или чего мы превосходим самих себя. Напротив, ответ на приятное или неприятное двойствен. Приятное вполне может быть неким истинным благом; но случается и так, что истинное благо оказывается неприятным. Большинство хороших людей согласится принять тяжелую работу, лишения, страдания, причем их добродетель позволит им поступить так без чрезмерных эгоцентричных сожалений.
Чувства не просто реагируют на ценности: они реагируют на них в соответствии с некоторой шкалой предпочтений. Так, мы можем различить витальные, социальные, культурные, личные и религиозные ценности, расположив их в восходящем порядке. Витальные ценности – например, здоровье и сила, ловкость и подтянутость – обычно ставятся выше труда, самоограничения, усилия, необходимых для того, чтобы их приобрести и поддерживать или восстановить. Социальные ценности, такие, как общественный порядок, обеспечивающий всему сообществу возможность витальных ценностей, следует предпочесть витальным ценностям индивидов, принадлежащих к этому сообществу. Культурные ценности не существуют без опоры на ценности витальные и социальные, но, тем не менее, ставятся выше. Не хлебом единым жив человек. Помимо и сверх того, чтобы просто жить и действовать, люди должны обрести смысл и ценность в своей жизни и своем действовании. Дело культуры – обнаруживать, выражать, взвешивать, оценивать, корректировать, развивать, улучшать этот смысл и эту ценность. Личные ценности – это личность в ее самотрансцендировании, личность как любящая и любимая, как порождающая ценности в себе и в своем окружении, как вдохновение и побуждение к подражанию, обращенное к другим. Наконец, религиозные ценности составляют самую сердцевину смысла и ценности человеческой жизни и человеческого мира. Но к этой теме мы вернемся в главе четвертой.
Так же, как и умения, чувства способны развиваться. Конечно, это верно, что по своему существу чувства спонтанны. Они не подвластны волевым приказам так, как подвластны им движения наших рук. Но когда чувства уже возникли, их можно подкрепить признанием и сосредоточенностью на них, а можно пресечь неодобрением и отвлечением от них. Такое подкрепление или пресечение не только поощрит одни чувства и подавит другие, но и внесет коррективы в спонтанную шкалу личностных предпочтений. Кроме того, чувства приобретают богатство и утонченность благодаря пристальному изучению многих и разнообразных предметов, их вызывающих. Например, образование в значительной мере заключается в том, чтобы создать атмосферу, которая способствовала бы развитию тонкости восприятия и вкуса, сочетанию разборчивого поощрения и деликатной критики; атмосферу, которая стимулировала бы собственные способности и стремления ученика или студента, расширяла и углубляла бы его понятие о ценностях и помогала бы ему в деле самотрансцендирования.
До сих пор я говорил о чувствах как об интенциональных ответах; но следует добавить, что чувства не мимолетны, не ограничены временем, в течение которого мы схватываем некоторую ценность или ее противоположность, и не исчезают в момент, когда наше внимание смещается от них в сторону. Разумеется, есть чувства, которые легко возникают и легко проходят. Есть также чувства, которые подверглись подавлению и вытеснению, чтобы далее влачить жалкое подпольное существование. Но есть и такие чувства, которые вполне осознанны и настолько глубоки и сильны, особенно если их намеренно подкреплять, что они фокусируют наше внимание, формируют наш горизонт, направляют нашу жизнь. Наивысший пример – переживание любви. Влюбленные мужчина или женщина живут любовью не только до тех пор, пока ожидают ответной любви, но постоянно. Помимо особых актов любви, существует прежде данное состояние пребывания в любви, это прежде данное состояние оказывается как бы источником всех действий человека. Так взаимная любовь сплетает две жизни в одну. Она претворяет «я» и «ты» в «мы» – настолько глубоко, надежно, прочно, что каждый надеется, мечтает, раздумывает, строит планы, чувствует, говорит, действует, не отделяя себя от другого.
Чувства могут не только развиваться, но и подвергаться аберрациям. Быть может, самой заметной их них является та, которая получила название «ресентимент». Это слово, заимствованное из французского языка, было введено в философию Фридрихом Ницще, а позднее, в ином виде, использовано Максом Шелером. Согласно Шелеру, ресентимент – это пере-живание человеком некоторого специфического столкновения с ценностными качествами кого-то другого. Этот другой выше него физически, интеллектуально, нравственно или духовно. Такое пере-живание не является активным или агрессивным, но тянется на протяжении долгого времени, иногда на протяжении всей жизни. Это чувство враждебности, злобы, возмущения, которое ни отвергается, ни выражается прямо. Оно обращено против такого ценностного качества, которым обладает высшая личность и которым низшая личность не только не обладает, но и чувствует себя не способной его приобрести. Это неприятие выражается в постоянном принижении ценности, о которой идет речь; более того, оно может обратиться в ненависть и даже насилие по отношению к тому, кто обладает этим ценностным качеством. Но худшая черта ресентимента, пожалуй, – в том, что отвержение одной ценности влечет за собой искажение всей шкалы ценностей, и это искажение может получить распространение в целом социальном классе, в целом народе, в целой эпохе. Поэтому анализ ресентимента может оказаться орудием этической, социальной и исторической критики. Вообще говоря, гораздо лучше дать себе полный отчет в своих чувствах, сколь бы прискорбным он ни был, чем отбрасывать их, закрывать на них глаза, игнорировать. Осознание собственных чувств позволяет человеку узнать себя, обнаружить свою невнимательность, недалекость, простоватость, безответственность (коими питаются те чувства, которых человек не хочет испытывать), и устранить аберрацию. С другой стороны, не отдавать себе в них отчета означает оставить их в сумраке того, что сознательно, но не объективировано. В итоге здесь возникает конфликт между самостью как сознательным и самостью как объективированным. Такое самоотчуждение ведет к принятию ошибочных мер, а они, в свою очередь, – к дальнейшим ошибкам, пока в отчаянии невротик не обратится к психоаналитику или психиатру.