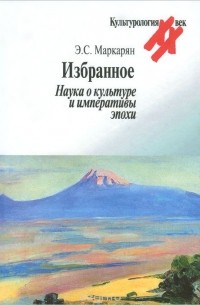Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3. «Горизонтальный» и «вертикальный» аспекты сравнительно-типологического изучения социально-исторических систем
В литературе часто встречаются утверждения, что правомерно сравнивать лишь однородные исторические объекты. Думается, это неверно. Предметом сравнительно-исторического исследования могут быть как однородные, так и разнородные исторические объекты. Другое дело, что само исследование, в зависимости от того, являются ли объекты сравнения однотипными или нет, строится качественно по-разному. В связи с этим возникает вопрос об использовании синхронного и диахронного принципов исследования, которыми предлагает руководствоваться Бэгби. Как нам думается, они совершенно не достаточны для решения задач сравнительного изучения истории.
Как известно, согласно этим принципам, объекты располагаются (в зависимости от того, являются ли они одновременными или находятся во временно́й последовательности) в двух плоскостях: «горизонтальной» (по признаку одновременности) и «вертикальной» (по признаку временной последовательности объектов). Сравнительно-типологическое изучение истории также предполагает рассмотрение объектов исследования как бы по «горизонтали» и по «вертикали». Однако в отличие от синхронного и диахронного методов рассмотрения объектов принципы сравнительного изучения истории требуют расположения объектов не по признакам их одновременности и временной последовательности, а по признакам их исторической однотипности или разнотипности. Изучение по «горизонтали» предполагает расположение в едином «параллельном» ряду исторически структурно однотипных объектов, по «вертикали» же располагаются структурно разнородные объекты, выражающие качественно различные типы социально-исторических систем. То обстоятельство, являются ли объекты, расположенные в «горизонтальном» и «вертикальном» рядах, одновременными или находятся во временной последовательности друг к другу, не имеет принципиального значения. Более того, при сравнительном изучении истории в «вертикальном» ряду могут располагаться объекты, одновременно сосуществующие в пространстве, и, наоборот, в «горизонтальный» ряд могут быть сведены объекты, находящиеся во временной последовательности друг к другу. Например, сравнительный анализ обществ Западной Европы и американского континента в период завоевания последнего предполагает сведение этих объектов в «вертикальный» ряд, несмотря на одновременность их существования, поскольку они находились на разных этапах исторического развития и, следовательно, обладали разными социальными структурами. Сравнение же обществ перуанских инков и древних египтян требует помещения их в «горизонтальный» ряд, несмотря на временную разницу между ними. Таким образом, основным критерием расположения объектов в двух различных плоскостях рассмотрения является их структурная однородность или разнородность. И в зависимости от этого условия сравнения приобретают качественно разный характер, преследуют принципиально различные, специфические познавательные задачи. В обоих случаях процесс сравнительного исследования идет от установления и анализа общих повторяющихся черт и признаков к выяснению отличительных особенностей. Но проблема соотношения общих и отличительных черт объектов ставится качественно по-разному при использовании сравнительного метода по «горизонтали» (сравнение однородных объектов) и по «вертикали» (сравнение разнородных объектов).
Если при «горизонтальном» сравнительном изучении однородных («параллельных») исторических систем задача состоит в установлении индивидуального, своеобразного проявления общих закономерностей функционирования и развития этих систем (к примеру, общества Древней Греции и Рима), то сравнительное исследование разнородных систем решает иную задачу – выявляет соотношение исторических структур, выражающих качественно различные типы развития общества (скажем, типы капиталистического и феодального обществ).
И в первом и во втором случаях сравнение является типологическим, то есть осуществляется при помощи конструирования типов, выражающих структуры исследуемых процессов. Но если в первом случае оно производится при помощи предварительно построенного типа, или, иначе говоря, модели, которая, воспроизводя общую структуру сопоставляемых процессов, затем как бы «накладывается» на последние с целью установления и сведения в систему отличающие их индивидуальные признаки, то во втором – строятся уже два структурных типа (модели), которые непосредственно сопоставляются между собой. И во втором случае систематически проводимое сравнение оказывается возможным лишь при условии предварительного вычленения некоторых общих признаков сопоставляемых процессов, благодаря которым и выясняется их специфика. Это – методологически необходимое условие любого сравнения, поскольку отличительные признаки сопоставляемых объектов могут быть поняты и сведены в систему лишь путем предварительного выделения некоторых присущих им общих черт, которые и должны быть положены в основу исследования.
Итак, мы видим, что в зависимости от того, сопоставляются ли исторически однородные или неоднородные объекты, логическая структура их сравнительного исследования оказывается качественно различной. Поэтому неудивительно, что установление научных критериев, способных выявить внутреннюю природу исторических процессов и систем, оказывается проблемой первостепенной важности. Именно при решении данной проблемы все научное преимущество материалистической методологии над идеалистической становится особенно рельефно ощутимым.
Выше, на примере концепции «эквивалентных культур», мы попытались показать, что историко-идеалистическое мышление не способно выработать теоретические принципы установления действительной внутренней природы исторических процессов. Порождаемый данным мышлением феноменологический, формально-внешний подход к изучению социально-исторической практики человечества не дает никаких устойчивых и определенных научных критериев для выявления внутренних специфических качеств сопоставляемых объектов исследования. Эти критерии, как мы уже знаем, усматриваются в различных формах проявления общественного сознания, в их «физиогномике», исходя из которой идеалисты пытаются объяснить единство социально-исторической жизни. И именно в силу этого данные критерии приобретают настолько формальный и неопределенный характер, что позволяют сводить в единый эквивалентный ряд сравнения самые различные социально-исторические структуры.
Это черту идеализма можно наблюдать, в частности, у Ф. Бэгби, который пишет: «Предположение относительно того, что сравнительное изучение развития идей и ценностей является ключом к пониманию истории, неизбежно дедуцируется из самой природы предмета исследования. Поскольку мы установили, что именно идеи и ценности дают основание для интеграции и дифференциации цивилизаций, мы не можем не сделать их описание и объяснение основной целью научного изучения истории».
К чему приходит Ф. Бэгби, руководствуясь этими методологическими принципами, мы уже знаем. В один «параллельный» ряд сравнения в качестве однородных объектов им сводятся совершенно различные исторические образования, общества древности и современности. Поэтому неудивительно, что с логической точки зрения концепция Бэгби дает предпосылки лишь для «горизонтального» сравнительного изучения цивилизаций.
Что касается тех исследователей-идеалистов, которые пытаются при сравнительном изучении истории устанавливать ее однородные процессы и системы, исходя из точки зрения стадиального развития истории, то производят они это не благодаря каким-то определенным теоретическим принципам и четко установленным критериям, а лишь на основе эмпирической очевидности, руководствуясь главным образом догадкой и интуицией.
Хорошо это показывает на примере М. М. Ковалевского Б. Г. Сафронов, который, отмечая, что Ковалевский стремился к сравнениям однородных исторических явлений, связанных с одной и той же фазой развития общества, в связи с этим пишет: «Но как раз здесь-то несовершенство методологии Ковалевского и дает о себе знать, заставляет его ограничиваться одними декларациями. Дело в том, что, будучи плюралистом, он не в состоянии выяснить основу единства всех сторон общества, важнейшую силу его трансформации, а также границу между отдельными фазами общественной эволюции. На деле у него нет теории общественной формации, этапа исторического развития, а есть только мысль о ней, идея, категорическое требование принимать это обстоятельство во внимание при пользовании историко-сравнительным методом. Не выработав себе критерия для определения формации, Ковалевский тем самым оказался на практике в положении человека, который не может определить, относятся ли сопоставляемые им факты в истории двух народов к одной и той же ступени их развития. У него не оказалось твердой почвы для рационального использования историко-сравнительного метода. Его сравнения только случайно могли удовлетворять требованиям метода, иметь научное значение».
Нам думается, что Б. Г. Сафронов в этой своей оценке методологии М. М. Ковалевского совершенно прав. Для того чтобы исторические сравнения могли удовлетворять требованиям метода и имели строго научное значение, одного постулирования необходимости сравнивать однородные исторические явления совершенно недостаточно. Плодотворным сравнительное изучение истории может быть лишь в том случае, если оно основывается на четко сформулированных теоретических принципах, способных дать научные критерии для выделения основных исторически выработанных общих типов социальных отношений и культуры. Только при наличии подобных критериев оказывается возможной правильная постановка проблемы исторической эквивалентности, ведущая не просто к констатации повторяемости отдельных, изолированных признаков социально-исторических систем, а к рассмотрению этих признаков в контексте самих систем, характеризуемых некоторыми всеохватывающими существенно важными общими чертами.
Выше уже неоднократно говорилось о том, что последовательно системное изучение объектов социально-исторического исследования становится возможным лишь при монистичном их рассмотрении, поскольку условием объяснения социальной системы является нахождение ее определяющей структурной единицы. В свете этого становится понятным вся противоречивость взглядов М. М. Ковалевского и других исследователей-плюралистов, разделяющих идею стадиального развития человечества. С одной стороны, они стремятся к выделению этапов общественного развития и в соответствии с принадлежностью к ним предлагают судить об однородности или разнородности исторических процессов и явлений. С другой стороны, они выступают против идеи монистического рассмотрения истории, лишь благодаря которой оказывается возможным выделение общих исторических типов социальных отношений и культуры как качественно определенных систем. Как уже отмечалось, для социологического плюралиста, несмотря на то что он говорит о взаимодействии различных социальных факторов, внутренне чужда идея органически системного рассмотрения истории, и неудивительно поэтому, что в большинстве случаев плюралистическая точка зрения сочетается с механистической трактовкой общества.
Те же исследователи, которые отвергают плюралистический и механистический подходы и пытаются свести исторические комплексы к их внутреннему единству и качественной определенности, исходя из последовательно идеалистических позиций, вынуждены критерии установления комплексной исторической природы сопоставляемых образований искать непосредственно в различных формах общественного сознания, в элементах «духовной» культуры. В этой связи вновь сошлемся на пример концепции «эквивалентных цивилизаций», представители которой вынуждены вырабатывать подобные критерии, не обобщая содержание различных социально-исторических систем, а базируясь на признаках, выражающих их специфически неповторимое проявление. В результате критерии установления комплексной природы этих систем приобретают настолько формальный характер, что они неизбежно противопоставляются друг другу. И именно благодаря этому достигается та ярко выраженная индивидуализация истории, которая наблюдается в западной философии истории XX в. В результате идея «эквивалентности» и «параллельности» исторических процессов и систем у ее большинства представителей выражает по сути дела уже не однотипность и содержательную общность исследуемых исторических процессов и систем, а как раз наоборот, их полную содержательную противоположность.
Совершенно иные теоретические предпосылки создает историко-материалистическое учение об общественно-экономических формациях. В свете учения о формациях идея исторической «эквивалентности» наполняется иным содержанием и оказывается методологически действительно плодотворной. Перед лицом вставших перед современной исторической наукой проблем исследователям-марксистам предстоит проделать большую работу в направлении конкретизации исходных принципов данного учения и выработки стройной и эмпирически обоснованной теоретической системы, позволяющей свободно и эффективно прилагать понятие «эквивалентности» к различным объектам сравнительно-исторического исследования.
Выше уже говорилось о трудностях, которые возникают при использовании этого столь важного для сравнительного изучения истории понятия в силу невозможности однозначного его определения. С одной стороны, для историко-материалистической концепции, исходящей из идеи всемирно-исторического, стадиального развития человечества, исторически эквивалентными выступают прежде всего однотипные исторические процессы. С другой стороны, понятие исторической эквивалентности (параллельности, равноценности) приложимо также и к таким разнотипным процессам истории, которые в качественно различных планах выражают один и тот же общий этап общественного развития. Оба эти значения «эквивалентности» выражают общие типы социально-исторических систем. Существует, однако, еще третье значение исторической «эквивалентности», выражающее уже локальную форму этих систем. И именно оно, как мы помним, лежит в основе концепции «эквивалентных культур». Исторической науке в процессе обсуждения этих проблем предстоит еще дать соответствующие точные терминологические обозначения понятию исторической «эквивалентности» в этих ее различных значениях.
Понятие однотипности конкретных социально-исторических систем ни в коей мере не исключает их различий между собой. Эти различия в большей или меньшей степени необходимым образом обусловливаются специфическими особенностями географической среды, исторических традиций, системы конкретных исторических связей, которые характерны для той или иной социально-исторической системы. Понятие исторической однотипности предполагает общность исходной структуры социально-исторических систем, единство определяющих закономерностей их функционирования и развития. Лишь в том случае, если различия систем не затрагивают их исходной структуры, правомерно говорить о наличии исторической однотипности. Если же исторические системы отличаются по своей исходной структуре, то они уже не могут рассматриваться в качестве однотипных и их сравнительное изучение должно строиться качественно особым образом (по «вертикали»).
Выше уже говорилось о различиях познавательных задач и самого характера исследования при сравнительном изучении исторически однородных и разнородных объектов. Повторим наши выводы.
Если при сравнительном изучении исторически однородных объектов («горизонтальное» сравнение) задача исследования состоит в установлении индивидуального, своеобразного проявления общих закономерностей функционирования и развития данных объектов, то при сравнительном изучении исторически разнородных объектов («вертикальное» сравнение) непосредственными объектами сравнения оказываются уже предварительно логически вычлененные исходные структуры, присущие им специфические закономерности. И в первом и во втором случаях сравнение является типологическим, т. е. производится при помощи конструирования типов, выражающих структуры исследуемых систем. Однако если в первом случае сравнение производится при помощи предварительно построенного типа, выражающего общую структуру сопоставляемых процессов, который затем как бы накладывается на них с целью свести в систему отличительные признаки и установить исторически обусловившие их причины, то во втором – строятся уже два структурных типа, которые непосредственно сопоставляются между собой.
Как мы уже знаем, при последовательном руководстве историко-идеалистической методологией исследователи в силу формально-внешнего подхода к исторической действительности вынуждены фактически производить сравнение лишь в одной, «горизонтальной» плоскости, предполагающей сравнение эквивалентных объектов. В результате сравнительный метод, базирующийся на историко-идеалистических принципах, оказывается не в состоянии сколько-нибудь плодотворно выполнить свою важную познавательную функцию и сводится по сути дела к методу поверхностных аналогий.
Иные методологические возможности несут в себе историко-материалистические принципы. Создавая условия выработки научных критериев установления однородности и разнородности социально-исторических систем, эти принципы тем самым создают необходимые предпосылки как для «горизонтального», так и для «вертикального» исследования истории.
Выше, при характеристике понятия общественно-экономической формации, уже говорилось о том, что данное понятие ни в коем случае не должно рассматриваться в виде готовой схемы-рецепта, способной выразить все многообразие истории. Свою важную методологическую роль в историческом исследовании данное понятие может сыграть лишь тогда, когда в каждом конкретном случае будет получать свое эмпирическое обоснование в соответствии с объективными историческими фактами. Без выполнения этого условия неизбежна насилующая факты истории догматическая трактовка учения об общественно-экономических формациях, при которой не проводится должного различения между логически идеализированной теоретической системой и воспроизводимой ею бесконечно более сложной и многоликой действительностью.
Основная познавательная функция, которую должно выполнять понятие общественно-экономической формации при «горизонтальном» сравнительном изучении истории, состоит не в навязывании готовой схемы различным социально-историческим системам, а в сведении этих систем к внутреннему основанию, благодаря чему, собственно говоря, становится возможным плодотворное и систематическое исследование их индивидуального своеобразия.
Что касается «вертикального» изучения истории, то в данном случае понятие общественно-экономической формации, создавая предпосылки для систематического исследования различий между основными исторически выработанными типами социальных отношений и культуры, в то же время нацеливает внимание исследователя и на общие закономерности и черты функционирования и развития качественно отличных друг от друга, разнородных социально-исторических систем.
Масштабы и планы сравнительного изучения истории по «горизонтали» и по «вертикали» могут быть самыми различными. Они непосредственно обусловливаются задачами исторического исследования, соответственно которым и вычленяются объекты сравнения. В качестве таких объектов могут выступать как «макросистемы», так и «микросистемы» истории, как исторические комплексы, так и различные аспекты общей сферы социально-исторической жизнедеятельности людей (материальные, духовные).
Целенаправленно и систематически производимые сравнения по отмеченным двум основным направлениям позволят решить на современном уровне знания многие сложнейшие и спорные проблемы исторической науки. Прежде всего они позволят получить более глубокие и детальные знания, с одной стороны, о конкретно-исторических, локальных проявлениях различных общественно-экономических формаций, а с другой – о соотношении самих формаций, о присущих им общих и специфических закономерностях. Это в свою очередь создает предпосылки для выработки более четкой, разветвленной и продуманной классификационной схемы всемирной истории, логическим выражением которой должна выступить отвечающая современному уровню знания историко-типологическая система.
Исходной таксономической единицей марксистской исторической науки выступает категория общественно-экономической формации. Но, само собой разумеется, общая марксистская историко-типологическая система не может быть никак сведена лишь к понятиям, выражающим эту категорию. Познавательные задачи исторической науки требуют гораздо более обширной историко-типологической системы, способной под различными углами зрения, выдвигаемыми практикой самого исторического исследования, выразить «горизонтальный» и «вертикальный» аспекты рассмотрения истории, т. е. как конкретно-локальные проявления общих типов социальных отношений и культуры, так и соотношения между этими типами.
Следует при этом иметь в виду, что значение историко-типологической системы отнюдь не ограничивается функциями классификации исторической действительности. Историко-типологическая система играет огромную роль на всех этапах исследования социально-исторических процессов и научного построения.
Огромную роль призвана сыграть историко-типологическая система в современном сравнительном изучении истории. Формируясь в результате и на базе сравнительного изучения истории, она в свою очередь оказывается тем необходимым логическим и теоретическим средством, без которого современное сравнительное изучение исторических процессов и систем оказывается немыслимым.