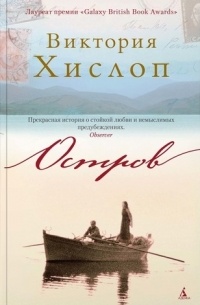Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть 2
Глава 3
1939 год
Начало мая принесло на Крит самые прекрасные и благоуханные дни. В один из таких дней, когда деревья покрылись пышным цветом, а на горах растаяли все до последней снежинки, превратившись в кристальные ручьи, Элени, покинув материк, отправилась на Спиналонгу. А небо, составляя жестокий контраст черным событиям, сияло чистой, безоблачной синевой. Собралась толпа, чтобы поплакать, помахать рукой на прощание. Даже если бы в этот день школа, из уважения к уезжающей учительнице, не была закрыта, в классах все равно раздавалось бы эхо от пустоты. И дети, и учителя отсутствовали. Все хотели проститься с горячо любимой Петракис.
Элени Петракис любили и в Плаке, и в окрестных деревнях. Она обладала неким магнетизмом, привлекавшим к ней в равной мере и детей, и взрослых, все уважали учительницу, восхищались ею. Причина тут была проста. Для Элени учительство стало призванием, а ее энтузиазм воспламенял детей, словно факел. Так сказал про нее преподаватель, который сам учил ее двадцать лет назад.
Вечером накануне того дня, когда она должна был навсегда покинуть свой дом, Элени наполнила одну из ваз весенними цветами. Она поставила ее в центр стола, и этот маленький букет полевых цветков волшебным образом преобразил комнату. Элени отлично понимала могущество простых поступков, силу деталей. Она знала, например, что если помнить день рождения ребенка или его любимый цвет, то это может оказаться ключом к его сердцу. Дети внимательно слушали ее в классе, прежде всего потому, что хотели ее порадовать, а не потому, что их заставляли учиться. Процессу помогало еще и то, что Элени представляла ученикам факты и цифры, записывая их на цветные карточки, подвешенные к потолку так, что они выглядели похожими на стайку экзотических птиц, постоянно круживших над головой.
Но дети пришли попрощаться не только с любимой учительницей, которая должна была отправиться в этот день через пролив на Спиналонгу, они прощались также и с хорошим другом: девятилетним Димитрием, чьи родители умудрялись уже год, а то и больше скрывать признаки проказы, проявившиеся у их сына. Каждый месяц они придумывали новые способы скрыть пятна на его коже: шорты до колен сменились на длинные брюки, открытые сандалии – на тяжелые ботинки, а летом ему запретили купаться в море вместе с другими ребятами, чтобы никто не заметил пятна на его спине. «Скажи, что боишься волн», – умоляла его мать, хотя это, конечно, звучало глупо. Все эти дети выросли у моря, наслаждаясь его бодрящей силой, и с нетерпением ожидали тех дней, когда северо-западный ветер превращал зеркальное Средиземноморье в дикий, бушующий океан. Только девчонки могли бояться волн. И мальчик, многие месяцы живший в страхе перед разоблачением, в глубине души понимал, что это лишь временное состояние и рано или поздно его раскроют.
Любой, кто не был знаком с необычными обстоятельствами того летнего утра, вполне мог бы предположить, что эта толпа собралась ради похорон. Людей было около сотни, в большинстве женщины и дети, и все они выглядели подавленными. Они стояли на деревенской площади как некое единое тело, молчаливые, ожидающие, дышащие в унисон. Совсем недалеко, на боковой улочке, Элени Петракис открыла дверь своего дома – и очутилась лицом к лицу с множеством людей на обычно пустой площади. Ее первым порывом было отступить назад. Но это ничего бы не изменило. Гиоргис уже ждал ее на причале, его лодка была нагружена вещами Элени. Ей требовалось совсем немного, остальное Гиоргис мог привезти в ближайшие недели, к тому же Элени не хотела забирать из родного дома что-то, кроме самого необходимого.
Анна и Мария остались позади, за закрытой дверью. Последние минуты, проведенные с ними, были самыми мучительными в жизни Элени. Ее терзало желание обнять девочек, стиснуть в руках, ощутить кожей их горячие слезы, успокоить их дрожащие тела. Но она ничего такого не могла сделать. Не могла, не рискуя их здоровьем. Лица девочек исказились от горя, глаза распухли от слез. Все уже было сказано, все чувства выплеснуты. Их мать уезжала. И она не собиралась вернуться вечером, нагруженная книгами, пожелтевшая от усталости, но сияющая от радости, потому что наконец могла побыть дома, с ними. Больше никаких возвращений.
Девочки вели себя точно так, как и предвидела Элени. Анна, старшая, всегда была переменчивой, подвижной, и сомневаться в том, чтó она чувствует, не приходилось. Мария же, наоборот, была тихим, терпеливым ребенком, ее настроение менялось гораздо медленнее. Поэтому в дни, предшествовавшие отъезду матери, Анна более открыто выражала горе, чем сестра, ее неспособность справляться с чувствами никогда не проявлялась сильнее, чем в эти дни. Анна умоляла маму не уезжать, просила остаться, шумела, почти бредила, дергала себя за волосы. Мария, в противоположность ей, сначала тихо всхлипывала, а потом разразилась рыданиями, которые были слышны даже на улице. Но в итоге обе пришли к одному: притихли от изнеможения, умолкли.
Элени была полна решимости обуздать вулканические взрывы горя, грозившие поглотить ее. Она сможет выплеснуть все тогда, когда покинет Плаку. Единственное, что помогало ей удержаться, – это надежда, что ее самообладание ничто не нарушит. Ведь если она ослабеет хотя бы на мгновение, все погибнет. Поэтому девочки должны были остаться дома. Их следовало избавить от зрелища исчезающей вдали фигуры матери, зрелища, которое могло навеки запечатлеться в их памяти.
Это был самый тяжелый момент в жизни Элени, а теперь еще ее лишили уединения. Ряды печальных глаз наблюдали за ней. Элени понимала: люди пришли, чтобы пожелать ей удачи, но никогда еще она не испытывала такого огромного желания остаться в одиночестве. А в этой толпе каждое лицо было ей знакомо, каждое она любила.
– Прощайте, – негромко произнесла она. – Прощайте!
Элени держалась отстраненно, сохраняя дистанцию. Ее привычное желание обнять каждого внезапно умерло десять дней назад, в то чудовищное утро, когда она заметила странные пятна на ноге. Тут невозможно было ошибиться, в особенности после того, как Элени сравнила свои пятна с рисунком на листовке, которая распространялась по всей Греции, чтобы предупредить людей о симптомах болезни. Элени даже не нужно было идти к специалисту, чтобы осознать ужасающую правду. Уже до того, как она пошла к врачу, Элени знала, что каким-то образом заразилась самой ужасной из всех болезней. И слова из Левита, которые куда чаще необходимого произносил их местный священник, сразу прозвучали в ее голове.
Многие люди и по сей день верили, что жестокие наставления Ветхого Завета по поводу обращения с прокаженными должны выполняться. Этот отрывок, должно быть, звучал в церквях уже сотни лет, и образ прокаженного – мужчины, женщины или даже ребенка, – выброшенного из общества, глубоко прижился в умах.
Когда Элени шла через толпу, Гиоргис, наверное, мог видеть только ее макушку, но он уже знал, что момент, которого он так страшился, совсем близок. Гиоргис тысячу раз бывал на Спиналонге, потому что год за годом привозил постоянным жителям острова разные припасы, но он и вообразить не мог, что когда-нибудь ему придется совершить вот такую поездку. Лодка была уже готова, и Гиоргис стоял, ожидая, пока подойдет Элени. Он крепко обхватил себя руками и склонил голову. Ему казалось, что если он будет стоять вот так, напрягая все тело, то сумеет подавить нараставшие чувства и удержать их, не дать выплеснуться наружу безумным криком боли и гнева. Его врожденную способность скрывать эмоции поддерживало самообладание его жены. Но внутренне он был разбит горем. «Я должен это сделать», – твердил себе Гиоргис, как будто ему предстояла еще одна самая обычная поездка на остров. К тысяче раз, когда он пересекал пролив, добавится еще один, а потом еще тысяча.
Пока Элени шла к причалу, толпа продолжала молчать. Какой-то ребенок заплакал, но мать быстро успокоила его. Один-единственный эмоциональный всплеск – и все эти страдающие люди могли потерять самообладание. Тогда вся сдержанность исчезла бы в один миг, и величественное достоинство этого прощания было бы утрачено.
Хотя несколько сотен метров до причала казались неодолимым расстоянием, Элени почти уже прошла их и потому обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на собравшихся. Ее дома уже не было видно, но она знала, что ставни остаются закрытыми, а ее дочери тихо всхлипывают в темноте.
И вдруг послышался плач. Это были громкие, душераздирающие рыдания какой-то взрослой женщины, и такое открытое проявление горя было настолько же необузданным, насколько сдержанным было страдание Элени. Она на мгновение замерла на месте. Эти звуки показались ей эхом ее собственного внутреннего состояния – они в точности отражали то, что Элени скрывала в себе. Толпа зашевелилась, отводя глаза от Элени и переводя взгляд на дальний край площади, где под деревом был привязан мул, а рядом с ним стояли мужчина и женщина. И еще там был мальчик, почти полностью скрытый в объятиях женщины. Макушка его головы едва достигала ее груди, а она склонялась к нему, обнимая, просто не в силах отпустить.
– Мой малыш! – в отчаянии выкрикивала женщина. – Мой мальчик, мой милый сынок!
Ее муж топтался рядом.
– Катерина, – уговаривал он. – Димитрий должен идти. У нас нет выбора. Лодка ждет. – Он мягко отвел руки матери от ребенка.
Она еще раз произнесла имя сына, мягко, неотчетливо:
– Димитрий…
Но мальчик не посмотрел на нее. Его взгляд уперся в пыльную землю.
– Идем, Димитрий, – твердо произнес его отец.
И мальчик последовал за ним.
Он шел, упорно глядя на поношенные кожаные ботинки отца. Ему только и требовалось, что ставить ноги в следы, оставленные в пыли отцом. Это была игра, в которую они играли так много раз, когда отец делал огромные шаги, а Димитрию приходилось прыгать, изо всех сил вытягивая ноги, чтобы не сбиться с шага, и он просто терял силы от смеха. Но на этот раз отец шагал медленно и неровно. Димитрию нетрудно было попадать в его следы. Отец освободил мула с грустной мордой от ноши и теперь нес на плече корзину с пожитками сына, на том самом плече, на котором так часто носил своего мальчика. Путь до причала, мимо собравшихся людей, казался таким длинным.
Последнее прощание отца и сына было кратким, почти мужским. Элени, осознавая всю неловкость момента, приветствовала Димитрия, полностью сосредоточившись на мальчике, за чью жизнь она принимала ответственность с этого момента и навсегда.
– Идем, увидим наш новый дом.
Она взяла мальчика за руку и помогла ему сесть в лодку, как будто они просто собирались отправиться на поиски приключений, а коробки, стоявшие на дне, содержали в себе разные вкусности для пикника.
Толпа наблюдала за их отплытием, продолжая хранить молчание. Для таких моментов не существовало каких-либо правил. Нужно ли помахать рукой? Нужно ли крикнуть что-нибудь на прощание? Бледные лица, скованные тела, тяжесть на сердце. Кое-кто испытывал двойственные чувства к мальчику, виня его за случившееся с Элени и за страх, который теперь испытывали люди, опасаясь за здоровье собственных детей. Но в тот момент, когда лодка отчалила, и матери, и отцы ощущали только жалость к двум несчастным, что навсегда расстаются со своими родными.
Гиоргис оттолкнул лодку от причала, и вскоре его весла уже вошли в привычный ритм борьбы с течением. Море как будто не хотело, чтобы они плыли туда. Еще какое-то время толпа наблюдала за лодкой, но, когда фигуры людей стали неразличимы, все начали расходиться.
Последней ушла с площади женщина примерно такого же возраста, как Элени, с девочкой. Это была Савина Ангелопулос, выросшая вместе с Элени, а девочка была ее дочерью Фотини, которая, по обычаям скромной деревенской жизни, являлась лучшей подружкой младшей дочери Элени, Марии. Шарф на голове Савины скрывал ее густые волосы, но подчеркивал огромные добрые глаза. Рождение детей плохо отразилось на ее теле, она стала грузной, с полными ногами. В противоположность ей Фотини была стройной, как молодое оливковое деревце, и при этом унаследовала от матери прекрасные глаза. Когда маленькая лодка почти исчезла из виду, обе они повернулись и быстро пересекли площадь. Они направлялись к дому с поблекшей зеленой дверью, к дому, из которого совсем недавно вышла Элени. Ставни на нем были закрыты, но входная дверь не заперта, и мать с дочерью вошли внутрь. Вскоре Савина уже сжимала в руках девочек, даруя им те объятия, которых не могла даровать в своей мудрости их родная мать.
Когда лодка приблизилась к острову, Элени еще крепче сжала руку Димитрия. Она была рада тому, что о несчастном мальчике есть кому позаботиться, и в это мгновение совсем не думала об иронии их положения. Элени намеревалась учить его и воспитывать, как родного сына, и делать все, что в ее силах, чтобы школьное обучение ребенка не оборвалась из-за чудовищного поворота событий. Теперь лодка уже достаточно приблизилась к острову, чтобы можно было рассмотреть нескольких человек, стоявших перед крепостной стеной, и понять, что они ждут новичков. А иначе зачем им стоять там? Вряд ли они хотели покинуть остров.
Гиоргис искусно подвел лодку к причалу и вскоре уже помогал жене и Димитрию выйти на сушу. Он бессознательно избегал прикосновения к обнаженной коже мальчика, поддерживая его под локоть, когда тот выбирался из лодки. А потом сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее привязать лодку к причалу, осторожно выгрузить ящики. Он старался отвлечься от той мысли, что ему придется отправиться с острова без жены. Небольшой фанерный ящик с пожитками мальчика и ящик побольше – с вещами Элени вскоре уже стояли на причале.
Вот они наконец на Спиналонге. Элени и Димитрию казалось, что они пересекли огромный океан, а их прежняя жизнь осталась в миллионе миль позади.
Прежде чем Элени успела оглядеться по сторонам, Гиоргис уже отчалил. Они еще накануне вечером договорились, что не станут долго прощаться, и оба были правы в своем решении. Гиоргис поспешно двинулся в обратный путь и успел увести лодку на добрую сотню метров от берега, надвинув шляпу так низко на лоб, что мог видеть только темные доски днища лодки.