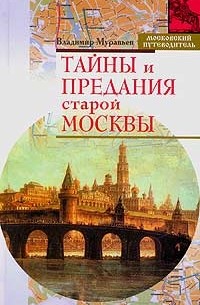Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Казанская
Казанская икона Божией Матери была обретена в XVI веке в городе Казани при чудесных обстоятельствах и в присутствии достойных доверия свидетелей, благодаря рассказам которых эта история известна в подробностях.
23 июня 1579 года в Казани случился большой пожар, который истребил весь посад и часть зданий в кремле. При этом пожаре сгорел и дом стрельца Даниила Онучина.
Печалься не печалься, а жить надо, и стрелец, расчистив пожарище, приступил к постройке нового дома. Но тут его десятилетняя дочь Матрена рассказала родителям, что во сне ей явилась Божия Матерь, и указала, что на месте их сгоревшего дома в земле лежит Ее святая икона, и велела сообщить об этом городскому начальству.
Сон этот снился девочке трижды.
Отец пошел к начальству, однако начальник счел рассказ девочки «мечтой юного воображения» и ничего не предпринял.
Однако священник их приходского храма святого Чудотворца Николая отец Гермоген поверил, что это не выдумка и что девочке действительно было чудесное видение. Матрена сама начала искать икону, и 8 июля она нашла ее в земле на глубине двух аршин на том месте, где стояла в доме печь. Икона была завернута в старый вишневого цвета рукав, и выглядела как новая, только что написанная.
Окрестные жители, узнав об удивительной находке, собрались на дворе Онучина, прибыло начальство и архиепископ казанский Иеремия. Отец Гермоген принял обретенную икону из рук девочки и под пение молитв внес ее в храм Чудотворца Николая.
Известие о найденной на пожарище иконе быстро распространилось в городе, и в храм пошли богомольцы. Несколько больных после молитвы перед этой иконой избавились от недуга. Так обнаружилось, что икона – чудотворная.
Архиепископ распорядился сделать список с новоявленной иконы и с письмом, в котором описал ее обретение и совершившиеся исцеления, послал в Москву царю Иоанну IV Васильевичу.
От царя пришло указание: «На том месте церковь поставити, иде же обретеся чудотворная оная икона, и монастырь девичь повеле устроить».
В честь обретения Казанской иконы Божией Матери 8 июля был учрежден ежегодный праздник. Сначала этот праздник был местным, казанским, затем стал общероссийским.
На месте обретения иконы был основан Богородицкий девичий монастырь, построен деревянный храм, в котором и была поставлена обретенная икона. В царствование царя Феодора Иоанновича по его повелению вместо деревянного храма воздвигли каменный. Первой сестрой новой обители стала Матрена, впоследствии она приняла постриг под именем Мавры и была игуменьей монастыря.
Священник казанской церкви святого Николая отец Гермоген в 1589 году был назначен казанским митрополитом. Своей праведной жизнью, пастырским служением, духовными сочинениями он приобрел большую известность и авторитет в духовных кругах и среди мирян. В числе его сочинений имеется и подробное «Сказание о явлении и чудесах иконы Казанской Богоматери».
Однако главный свой подвиг митрополит Гермоген совершил в годы Смуты начала XVII века, когда в Россию вторглись алчные иноземные завоеватели, заняли западные земли, захватили Москву. Тогда две беды грозили самому существованию России как государству: польско-литовские и шведские оккупанты, чувствовавшие себя хозяевами в Москве, и измена правителей-бояр, которые предали родину, свой народ и ради сохранения своих богатств стали прислуживать врагам. Именно в это тяжелое для страны время Гермоген отказался подчиняться требованиям захватчиков, их ставленников-самозванцев и бояр-предателей, став духовным вождем русского сопротивления.
В 1605 году Лжедмитрий I, образовавший для руководства страной Сенат, дал Гермогену звание сенатора и вызвал в Москву.
Сенат должен был одобрить венчание Лжедмитрия на дочери польского магната Ежи Мнишека, одного из организаторов польской интервенции в Россию, Марине Мнишек. Марина Мнишек была католичкой и, по замыслам интервентов, должна была остаться ею и став царицей России.
Гермоген потребовал, чтобы царская невеста перед венчанием приняла православие и твердо стоял на своем, за что и был отослан обратно в Казань.
После свержения первого самозванца Гермоген приехал в Москву на собор епископов, который собрался для низложения польского ставленника патриарха Игнатия. Собор возвел Гермогена в сан патриарха всероссийского.
Гермоген первым делом объявил о самозванстве Лжедмитрия, о том, что истинный царевич Дмитрий мертв, и что все, называющие себя его именем, – самозванцы. Прах царевича Дмитрия был перевезен в Москву и похоронен в Архангельском соборе, рядом с могилами его отца и братьев.
В дальнейшем при всех событиях Смуты, когда на русский престол претендовали то еще два Лжедмитрия, то польский король Сигизмунд III, то его сын царевич Владислав, Гермоген твердо держался своей позиции – русский царь должен быть православным и «от колена российского рода». С этим требованием он выступал открыто. Так, на службе в кремлевском Успенском соборе он запретил православным гражданам России присягать королю Сигизмунду, как того требовали изменившие родине бояре. Гермоген обращается прямо к народу. Он рассылает свои грамоты-послания в провинциальные русские города – Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и другие с призывом ополчаться и идти в Москву «на литовских людей» и «изменников».
В январе 1611 года поляки заключили Гермогена в темницу Чудова монастыря. Его морили голодом, давая «на неделю сноп овса и мало воды», от него требовали, чтобы он отправил в создаваемое в провинции народное ополчение иное послание, в котором было бы сказано, что он запрещает ополченцам идти на Москву и повелевает разойтись. Гермоген отказался и из темницы благословил взять в ополчение войсковой святыней Казанскую икону Божией Матери.
В марте 1611 года в Москве началось восстание против оккупантов. Бои шли на улицах. Но силы были неравны, польские, немецкие и шведские отряды жгли город и вытесняли повстанцев на окраины. В то время, когда восстание было уже практически подавлено, к Москве подошло Первое народное ополчение, созданное в Рязани, и в ополченский отряд, стоявший возле Новодевичьего монастыря, занятого польским войском под командованием литовского гетмана Ходкевича, из Казани доставили список Казанской иконы Божией Матери. Ополченцы начали наступление и освободили монастырь. Это сражение вошло в историю под названием «гетманский бой».
В 1611 году Москву освободить не удалось. Но в Нижнем Новгороде уже собиралось новое ополчение под руководством Минина и Пожарского. Поляки и бояре-изменники потребовали от Гермогена, чтобы он написал в Нижний, что не благословляет нового похода на Москву, на что Гермоген ответил: «Да будут благословенны те, которые идут для очищения Московского государства, а вы, изменники, будьте прокляты!».
Гермоген умер в темнице 17 февраля 1612 года.
В марте 1612 года из Нижнего Новгорода выступило Второе ополчение, и войсковой иконой в нем была Казанская икона Божией Матери, та, с которой сражались воины в «гетманском бою».
В августе этого же года ополчение Минина и Пожарского подошло к Москве. Больше месяца его отряды сражались под Москвой и на ее окраинах, продвигаясь к центру. Поляки держали оборону, защищенные могучими стенами Китай-города и Кремля.
Накануне решительного штурма в ополчении отслужили молебны перед Казанской иконой Божией Матери. И 22 октября тот отряд, в котором находилась тот день икона, овладел первой башней – Круглой башней Китай-города, расположенной между Ильинской и Нильской башнями. Оборона врага была взломана, и три дня спустя вражеские отряды, отступившие и запершиеся в Кремле, капитулировали.
«По совершении ж дела сего (освобождения Москвы. – В. М.), – рассказывает один из участников боев князь С. И. Шаховой, – воеводы и властелины вкупе ж и весь народ московский воздаша хвалу Богу и Пречистыя Его Матери, и пред чудотворною иконою (Владимирской) молебное пение возсылаху и уставиша праздник торжественный праздновати о таковой чудной дивной победе».
Ополченская же святыня – образ Казанской Божией Матери – осталась у руководителя ополчения князя Пожарского, и «по взятии Кремля, – сообщает летопись, – князь Дмитрий Пожарский освяти храм в своем приходе Введения: Пречистыя Богородицы, на Устретенской улице, и тое икону Пречистыя Богородицы Казанская поставили тут». После венчания на царство Михаила Федоровича Романова в 1613 году Казанская икона Божией Матери становится наиболее почитаемым образом в царской семье. В летописи об этом рассказано так: священники Введенского храма «возвестиша Царю… про ее чудеса, како в гетманский бой и в московское взятие от того образа велия чудеса быша. Царь же Михайло Федорович всеа Русии и мать его великая старица Марфа Ивановна начата к тому образу веру держати велию, и повелеша праздновати дважды в год и установиша со кресты». Праздник обретения иконы в народе называют «летней Казанской», а праздник освобождения Москвы – «осенней Казанской».
Отношение к тому или иному своему современнику народ определяет по его отношению к главнейшему событию эпохи. В начале XVII века это была освободительная борьба против поляков. Михаил Федорович не был ее прямым участником, поэтому он подчеркивал свою причастность к недавним событиям особым почитанием Казанской иконы Божией Матери. Видимо, этот шаг был подсказан ему отцом – патриархом Филаретом, умным и властным человеком, считавшимся соперником Бориса Годунова при избрании того на престол и насильно постриженным Годуновым в монахи.
Весной 1632 года правительство России и Земский собор принимают решение начать войну за возвращение захваченных Польшей в годы Смуты смоленских земель, еще остававшихся под ее властью.
Почитание образа Казанской Божией Матери царем и царской фамилией приобретает новые черты: празднования совершаются с крестными ходами, в Москву приглашаются из Казани «старица Мавра, которой явилась пречистая Богородица Казанская», ей, как отмечено в «Ладанной книге», выдано «три фунта ладану бранного» (то есть лучшего, отобранного), и в этом же году начинается строительство в Москве деревянной церкви во имя образа Казанской Божией Матери «меж Ильинских и Николаевских ворот» Китайгородской стены.
Церковь, как ее называли, Казанская у Стены, стояла на том месте, где во время штурма прорвались ополченцы, царь Михаил усердно посещал эту церковь, участвовал в крестных ходах, отпускал из казны на ее содержание такие же средства, как на кремлевский Верхоспасский собор. В большой пожар 25 апреля 1634 года церковь Казанская у Стены сгорела, и по царскому повелению было начато строительство каменной церкви Казанской иконы Божией Матери на Красной площади.
Новый храм на Красной площади возводился исключительно на средства царя. Существует предание, что его строителем был князь Дмитрий Пожарский, но в документах по строительству храма, как пишут в книге «Казанский собор на Красной площади» (1993) Л.А. Беляев и Г.А. Павлович, «…нет ни одного упоминания о князе Д.М. Пожарском ни как о храмоздателе, ни как о вкладчике».
Место для нового царского храма было выбрано очень удачное по многим соображениям. Скорее всего примером для его избрания послужил храм Василия Блаженного, возведенный в память победы над Казанским ханством и поставленный вне стен Кремля на самой многолюдной площади города, на Великом Торге, для всенародного почитания и прославления святых, во имя которых он сооружен, а также в память о храмоздателе.
Храм новой династии также следовало строить на главной площади, при этом он должен был быть не менее величественен.
Архитектор, возводивший Казанский собор, Обросим Максимов – ученик строителя стен и башен Белого города Федора Коня гениально разрешил поставленную перед ним задачу. Он не стал строить махину, превосходящую Василия Блаженного по размеру, не стал еще более усложнять формы храма и, главное, отказался от идеи прямого и открытого соперничества.
Максимов поставил Казанский собор не в центре Торга, но в дальнем от собора Василия Блаженного углу. Зритель не мог видеть их одновременно и сравнивать, а должен был рассматривать по отдельности. При таком осмотре каждый храм представал перед зрителем, раскрывая свои оригинальные черты, свою неповторимую красоту.
У некоторых авторов, сообщающих, что Казанский собор поставили на пустом, не занятом постройками месте, в подтексте явно звучит намек: воткнули, мол, где нашелся пустырь. Однако это совсем не так: под царский храм очистили бы любой участок; дело в том, что Обросим Максимов, московский зодчий XVII века, был талантливым архитектором и замечательным градостроителем. Его градостроительное решение угла Красной площади и Никольской улицы так точно и выразительно, что вот уже более трех веков ни у кого не вызывает сомнения.
16 октября 1636 года собор был освящен патриархом Иосафом. На освящении присутствовали князь с семьей, вельможи, вокруг храма собралось великое множество народа.
В собор был перенесен из Введенской церкви чудотворный образ Казанской Божией Матери. По преданию, чудотворную икону из Введенской церкви до нового собора нес князь Дмитрий Пожарский.
Одновременно со строительством Казанского собора была перепланирована и благоустроена площадь перед ним.
Площадь и Никольская улица до этого имели деревянные мостовые из круглых бревен. Езда по ним сопровождалась тряской и, по отзывам современников, была мучительной. После постройки собора площадь была замощена тесаными бревнами, и теперь, как сказано в летописи, она стала «аки гладкий пол». Такой же «гладкий пол» был уложен от Воскресенских ворот до Лобного места. Замощенную улицу в XVI–XVII веках часто называли мостом. Мост на Торгу из тесаных бревен в народе стали называть Красным, то есть красивым, хорошим, а затем и всю площадь – Красной. В документах название Красной площади начинает встречаться с 1660-х годов. Это означает, что к тому времени оно стало общепризнанным.
Казанский собор занял особое место среди московских храмов. Он пользовался исключительным вниманием царской семьи. Крестные ходы 8 июля в память явления Казанской иконы и 22 октября в память освобождения Москвы происходили с особой торжественностью, в них обязательно принимали участие царь, царская семья, придворные и высшие вельможи. Порядок, чин, размещение участвующих в процессии подчинялись строгим правилам. Главное место отводилось царю.
Царский крестный ход в Казанский собор из Кремля и от него в Кремль кроме церковного молитвенного значения приобретал явный политический оттенок: размещение участников в процессии отражало существовавшее на это время положение при дворе того или иного вельможи.
Участие царя в крестном ходе с Казанской иконой способствовало усилению, как тогда говорили, «народной любви» к нему. Поэтому наследовавший трон сын Михаила Федоровича царь Алексей Михайлович проявлял еще большее усердие в почитании чудотворного образа. Если Михаил Федорович иногда пропускал крестный ход июля на летнюю Казанскую и обязательно присутствовал только на обедне осенней Казанской 22 октября, то Алексей Михайлович считал для себя обязательным присутствие, как отметила летопись, «неотступно у всех праздников». Кроме того, он стоял не только обедню, но и вечерню кануна и всенощную праздника.
Сам Казанский собор, являясь фактически царским, придворным (в некоторых документах его называют «теремным», то есть домашним, храмом), также находился под властным контролем государя, который использовал его для осуществления влияния на церковную жизнь, ставя туда священников по своему выбору.
Будучи публичной кафедрой духовной церковной реформы, Казанский собор также неоднократно становился местом публичной демонстрации гражданских политических акций.
Подчеркнутым вниманием к святыням Казанского собора, частым посещением служб в нем пыталась найти поддержку народа в своих претензиях на власть царевна Софья Алексеевна.
За иконой в Казанском соборе было обнаружено и прочитано народу «подметное письмо», послужившее началом стрелецкого бунта.
У Казанского собора произошло событие, которое стало первым решительным шагом Петра I к трону. 8 июля 1687 года на летнюю Казанскую состоялся традиционный крестный ход. Нести икону взялась царевна Софья, имевшая титул «правительницы» при малолетних братьях-царях, но пятнадцатилетний Петр, заявив, что он царь, потребовал от сестры передать икону ему, а самой покинуть процессию. Она отказалась, тогда Петр ушел с площади. Это было объявлением открытой борьбы, завершившейся свержением Софьи.
Однако было бы совершенно неправильно сводить роль Казанского собора к арене политических интриг и борьбе амбиций, которые захватывали сравнительно небольшой круг людей, проходили и затем забывались. Зато постоянной и всенародной оставалась память о том, что собор возведен в честь народной победы, и таким же непреходящим и всенародным было почитание его святыни – чудотворной иконы Казанской Божией Матери, хранительницы каждого человека и всей России. Об этом и молитва ей:
«Со страхом, верою и любовью припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу…»
Широко расходились вести о чудесах, явленных иконой Казанской: исцелениях, исполнении желаний. Священники Казанского собора вели летопись этих чудес. В соборной библиотеке среди прочих документов хранилась рукопись «Сказание о чуде от иконы Казанской Божьей Матери», которая, кроме того, что служит свидетельством о чуде, является выдающимся произведением древнерусской словесности, известным по курсам древнерусской литературы под названием «Повесть о Савве Грудцыне».
«Повесть о Савве Грудцыне» написана в середине XVII века и современна событиям, в ней описанным.
«Хощу убо вам, братие, – начинает рассказ неизвестный нам ее автор, – поведати повесть сию предивную, страха и ужаса исполнену и неизреченного удивления достойну, како человеколюбивый Бог долготерпелив, ожидая обращения нашего, и неизреченными своими судьбами приводит ко спасению».
Герой повести – личность историческая. «Торговые люди» Грудцыны-Усовы принадлежали к богатому купечеству, имели звание «лучших людей», они часто упоминаются в документах конца XVI–XVII веков. Действие повести происходит в первой половине XVII века, автор точен в описании исторических событий, правильно называет имена их участников – боярина Шеина, стольника Воронцова, боярина Стрешнева и других, указывает существовавшие в действительности адреса. Так, например, адрес места жительства Саввы в Москве «на Устретенке в Земляном городе в Зимине приказе в дому стрелецкого сотника именем Якова Шилова» подтверждается городскими переписями того времени: действительно, был на Сретенке дом сотника Шилова, действительно, размещался там полк, или, как его еще называли, приказ, стрелецкого головы Зимы Волкова.
Так вот, на таком достоверном фоне разворачивается действие «предивной» повести.
Сюжет повести таков. Савва влюбился в жену друга своего отца купца Бажена и возжелал ее. Страсть его была так сильна, что он подумал: «И егда бы кто от человек или сам диавол сотворил ми сие, еже бы паки совокупиться мне с женою оною, аз бы послужил диаволу». И тут он увидел юношу, бегущего к нему (дело происходило в поле за городом) и махающего рукой: мол, подожди.
Юноша заговорил с ним ласково, сказал, что знает его родню и готов ему во всем служить и помогать. Савва открыл ему свое желание. Юноша говорит ему: «Могу исполнить, что желаешь, если ты подпишешь, что отрекаешься от Христа и готов служит диаволу». Савва подписал.
Желание купеческого сына исполнилось. Затем бес (а этот юноша был бесом) стал исполнять и другие желания Саввы: сделал его воинским начальником, обратил на него благосклонное внимание царя.
Некоторое время спустя Савва разболелся, «и бе болезнь его тяжка зело, яко быти ему близ смерти», а помощи от Бога, поскольку он продал душу «диаволу», Савва получить не мог. Он страдал, сильно «умученный». Вдруг хозяин дома, в котором он жил, слышит, что больной вроде с кем-то говорит, и спрашивает: «Что ты во сне увидел? С кем говорил?»
На что Савва ему ответил, обливаясь слезами, что увидел он явившуюся к его одру «светолепну жену» и понял, что это была Богородица. Она спросила его, о чем он скорбит. Савва ответил, что скорбит о том, что прогневал Господа – подписал дьяволу бумагу. Богородица, видя его раскаяние, дала обещание умолить Сына Своего, чтобы Он простил Савву, и помочь вернуть от дьявола собственноручное Саввы «рукописание», но Савва должен исполнить то, что она повелит. Повеление же ее было таково: «Егда убо приспеет праздник явления образа Моего, яже в Казани, ты же прииди во храм мой, иже на площади у Ветошного ряду; и аз пред всем народом чюдо явлю на тебе».
Хозяин-сотник доложил о видении своего постояльца царю, и царь милостиво разрешил принести болящего на праздник в собор.
«Егда же бысть праздник Казанския Богородицы июля осмаго дня, – рассказывается в повести, – тогда бо бысть крестное хождение до церкви тоя Казанския Богородицы со святыми иконами и честными кресты… В том крестном хождении бысть великий Государь царь и великий князь Михаил Федорович, и священный патриарх со всем освященным собором и множество вельмож, абие повелевает царь принести болящего Савву до церкви тоя. Тогда же, по повелению цареву, принесоша болящего оного до церкви Казанския Богородицы, скоро на ковре, и положиша его вне церкви в преддверии.
И егда же начата литоргисати (служить литургию. – В. М.), тогда нападе на больного Савву дух нечистый, и нача мучити его диавол. Он велием гласом вопия: “Помози, ми, Госпоже Дево, помози ми, Всецарице Богородице!” и егда же начата херувимскую песнь воспевати, тогда возгреме яко гром и бысть глас глаголющ: “Савво, восстани и гряди семо во храм мой!” Он же, воспрянув с принесенного ковра, якобы никогда не скорбел (т. е. не болел. – В. М.), и скоро притече во храм той, паде ниц пред образом пресвятая Богородицы Казанския, моляся со слезами. Тогда же низпаде от верху округа церковного богоотменное оное писание, яже дади Савва диаволу, все бо заглажено, яко же бы никогда не писано. Еще же повторяя глас бысть: “Савво, се твое рукописание, яже писал еси, и исполни заповеди Моя и к тому не согрешай!”… Тогда же слышав царь и патриарх и вси предстоящие вельможи, и видевши таковое преславное чудо, благодариша Бога и Пречистую Его Матерь…».
Савва вернулся домой совершенно здоровый. Спустя малое время он раздал свое имение в церкви и нищим постригся в иноческий чин в Чудовом монастыре. Он «поживе лета довольна, ко Господу отъиде с миром; и погребен бысть в том монастыре». В царствование Петра I с переводом столицы и двора из Москвы в Петербург московский Казанский собор утратил свой придворно-политический статус. Но Петр почитал Казанскую икону Божией Матери и перенес в новую столицу из Москвы тот ее список, который был прислан царю Ивану Васильевичу из Казани в 1579 году. В Петербурге во имя Казанской иконы в начале XIX века был возведен один из самых величественных соборов северной столицы – Казанский собор на Невском проспекте.
Московский Казанский собор, лишившись царского покровительства, тем не менее оставался одним из наиболее посещаемых московских храмов. Его главная святыня и слава – икона Казанской Божией Матери в народной памяти связывалась с борьбой ополченцев против захватчиков, с освобождением Москвы, с именем замученного в темнице патриарха Гермогена и с именем князя Дмитрия Пожарского, военного руководителя ополчения. Память же о придворной принадлежности храма, не поддерживаемая постоянными официальными церемониями во время служб и крестных ходов, постепенно слабела.
К концу XVIII века окончательно забылось, что храмоздателем Казанского собора был царь Михаил Федорович. И в народной памяти, и в исторической научной литературе как несомненный и общепризнанный факт утвердилось мнение, что строителем Казанского собора был князь Д.М. Пожарский. Даже такой серьезный ученый историк и архивист, как А.Ф. Малиновский в работе 1820-х годов «Обозрение Москвы» утверждает: «Казанский собор построен боярином князем Дмитрием Михайловичем Пожарским по случаю незабвенного для Москвы и для всей России происшествия». При этом Малиновский основывался на бывшей в его распоряжении литературе, безусловно, авторитетной. Не подвергая сомнению факт строительства собора Пожарским, он в то же время опровергает достоверность другой народной легенды: «Прежде многие думали, что тут (в соборе. – В. М.) похоронен храмоздатель князь Пожарский, но теперь известно уже, что прах его покоится в Спасо-Евфимьевском монастыре, где издавна погребались его предки».
В современных работах, как правило, строителем Казанского собора также называется князь Пожарский. Таким образом, народная молва вопреки фактам восстанавливает историческую справедливость: мемориальный памятник (а Казанский собор является таковым) должен вызывать в памяти прежде всего образ того или тех, в честь которых он поставлен, а не того, на чьи деньги его строили.
В Отечественную войну 1812 года с новой силой и с новым значением зазвучали имена Минина и Пожарского. Они были произнесены в первом же обращенном к народу императорском манифесте, извещавшем о вступлении наполеоновских войск в пределы России, в котором император Александр I выразил уверенность в том, что враг найдет «…на каждом шаге верных сынов России, поражающих всеми средствами и силами», «встретит в каждом дворянине Пожарского, в каждом гражданине – Минина».
В петербургском Казанском соборе перед иконой Казанской Божией Матери молился перед отъездом в армию назначенный главнокомандующим всех русских войск И. Кутузов.
Площадь перед московским Казанским собором всегда бывала многолюдна. У ограды располагались «скамьи и шалаши» с торговлей разными съестными товарами, предлагали свой товар разносчики – квас, сбитень, пирожки. Торговля была оживленной, потому что здесь пролегали пути и на Красную площадь, и в Кремль, и в Зарядье, и Замоскворечье.
С началом войны народу у Казанского собора не стало меньше, но переменились характер толпы и ее настроение, постоянно был полон народом и храм.
За собором находилась губернская типография, в которой печатались сообщения из армии, распоряжения московского губернатора Ростопчина и тут же раздавались народу. Люди на площади ожидали этих сообщений, которые тотчас вызывали оживленные обсуждения, замечания, вопросы. На ограде собора вывешивались лубочные листы о войне: «Крестьянин Иван Долбило», «Французы под конвоем бабушки Спиридоновны», «Беседы бывшего ратника московского мещанина Карнюшки Чихирина о доблести русского воина» и многие другие.
В ночь на 1 сентября 1812 года, накануне вступления Наполеона в Москву, архиепископ московский Августин по приказу губернатора Ростопчина выехал из Москвы во Владимир, увозя московские святыни – Владимирскую икону Божией Матери и Иверскую. Казанская икона пока оставалась в храме. Лишь 2 сентября, когда французские войска уже входили в город, икону вынесли из собора; сначала ее укрыли в доме протоиерея Сергия, а затем увезли из города. В статье священника Радугина, опубликованной в 1862 году, приводятся воспоминания неназванного мемуариста о том, как были вывезены Августином Владимирская и Иверская иконы, но поскольку обстоятельства и детали его выезда из Москвы хорошо известны и не соответствуют этому рассказу, то очевидно, что здесь речь идет о другой святыне – видимо, о Казанской иконе.
Икону погрузили в дорожную карету, рассказывает мемуарист, и «…полетели вскачь к Крестовской заставе, думая настичь обоз с церковным имуществом; но у Сухаревой башни были остановлены врагами, предупредившими их и загородившими выезд из столицы. Чтобы не остаться в плену, надобно было повернуть лошадей назад и искать другого выезда. Сначала думали было пробраться к Калужской заставе, в которую проходили русские войска; но повернув на Яузу, повернули в Рогожскую заставу, где была страшная давка от множества экипажей и народа, спешившего выехать из Москвы». Следуя за армией, карета с Казанской иконой Божией Матери оказалась под Тарутином, где Кутузов разворачивал лагерь русских войск. Во время своего пребывания в Москве французы ограбили Казанский собор, но он не был разрушен. Площадь перед ним завалило грудами кирпичей от взорванной Никольской башни. 12 октября последние французские части ушли из Москвы, в тот же день была совершена служба в сохранившемся Страстном монастыре. В первых числах ноября в Москву возвратился архиепископ Августин со святынями. 1 декабря по Китай-городу прошли крестные ходы, во время которых Августин освящал краплением воды Москву: «…древний благочестивый град сей, богоненавистным в нем пребыванием врага нечестивого оскверненный». Среди других храмов был освящен и Казанский собор.
XX век, принесший русскому православию – вере, церкви и верующим тяжкие испытания, поругание святынь, страдания и гонения, сравнимые с гонениями, которым подвергались первые христиане, начался страшным и пророческим исчезновением подлинной чудотворной Казанской иконы Божией Матери из ее обители – Богородицкого казанского монастыря.
Утром 29 июня 1904 года служители обнаружили, что из монастырского собора исчезли две иконы: чудотворная Казанской Божией Матери и Нерукотворный образ Спасителя.
Полиции удалось обнаружить непосредственных похитителей – двадцативосьмилетнего крестьянина Варфоломея Стояна, он же Чайкин, и тридцатилетнего крестьянина Комова, а также их сообщников – сожительницу Чайкина и ее мать, которые обвинялись в укрывательстве похищенного, ювелира, купившего золото и жемчуг с окладов икон, и церковного сторожа, который, возможно, содействовал похищению.
Главное желание следователей, игуменьи монастыря, духовных и светских властей заключалось в том, чтобы вернуть святыни. Но сожительница Чайкина, ее малолетняя дочь и мать показали на суде, что они видели, как Чайкин разрубил иконы на мелкие щепки и жег их в печи. При обыске в печи были найдены четыре обгорелые жемчужины, грунтовка с позолотой, два гвоздика, 17 петель, которые, по показаниям монахинь, находились на бархатной обшивке иконы. Сам Чайкин во время следствия отрицал уничтожение им икон, чтобы не отягчать свою вину еще и богохульством, после же приговора признался в этом.
Чайкин представлял собой характерный тип, с которым русскому православию предстояло встретиться в недалеком будущем. Следствие обнаружило еще ряд совершенных им церковных ограблений, правда, он сдирал с икон драгоценные ризы, самих же образов не похищал, что характеризовало его как заурядного уголовника. Между тем он старался представить себя публике «политиком», социалистом, убежденным атеистом, объясняя уничтожение икон тем, что ему «…ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтят, что…сожгу ее и никакого не случится чуда: сгорит – и все».
После приговора Чайкин сидел в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Следствие по поиску икон продолжалось и после приговора. У следователей не было уверенности в том, что они уничтожены: Чайкин путался в своих показаниях, в уголовном мире ходил слух, что иконы были проданы. Древние иконы имели спрос у коллекционеров, их скупали старообрядцы, поэтому следователи сомневались в том, что Чайкин мог своими руками уничтожить иконы, цена которых превышает цену их оклада.
В 1930-е годы прошел слух, будто Казанская икона Божией Матери была продана большевиками за границу в числе многих других старинных икон.
Московский Казанский собор во время боев Октябрьской революции 1917 года оказался в самом центре военных действий. При наступлении на Кремль отряды красногвардейцев двигались по Никольской улице, у собора было поставлено орудие, которое прямой наводкой било по Никольской башне.
Обстрел Никольской башни стал первым случаем осквернения и разрушения православных святынь коммунистами: пострадал надвратный образ святителя Николая, почитаемый в Москве чудотворным за то, что при взрыве французами в 1812 году Никольской башни остался неповрежденным.
Образ Николая Чудотворца на Никольских воротах через некоторое время был заложен кирпичом.
В 1925 году подошло время в очередной раз ремонтировать Казанский собор, община верующих храма решила вернуть собору по возможности прежний облик. Произвести реставрацию предложили тогда уже известному своими реставрационными работами П.Д. Барановскому. Средства на реставрацию давала община.
Барановский начал реставрационные работы с барабана главы собора и восстановления кокошников. Понимая, что работа продлится долго, он, чтобы не портить вида Красной площади, работал без лесов, и Казанский собор преображался, обретая прежнюю красоту, на глазах москвичей.
Однако довести реставрацию Казанского собора до конца Барановскому не удалось: в 1930 году храм был закрыт, община распущена. Собор был наскоро переоборудован под жилые коммунальные квартиры и стал именоваться домом № 1 по Никольской улице.
Бывшая жилица этого дома уже в наше время рассказала об условиях жизни в переоборудованном под жилье соборе.
«Жизнь в церкви я до сих пор вспоминаю с содроганием. Бытовые условия были такие, что никому не пожелаю. Комнатки тесные, в каждой по 4–5 человек. Стены голые: от церковных интерьеров и утвари нам ничего не осталось. Окошечки узенькие, света почти не давали. Кухни и ванной комнаты как таковых не было вовсе. Но в каждой комнате – раковина с холодной водой, и паровое отопление у нас было: печки не топили, это я точно помню… В то время Казанская церковь выглядела как несуразный двухэтажный дом с деревянным грубо сколоченным чердаком… Бывший собор обнесли дощатым забором… Один вход был со стороны Исторического музея, другой с Никольской улицы… Туалет находился на первом этаже, это был деревянный сортир в три очка…
Ордера на столь «центровую» жилплощадь выдавались только «классово устойчивому элементу», в основном рабочим. Но все равно жизнь в соборе протекала под неусыпным контролем Лубянки. Во время парада или демонстрации в каждой комнате сидел у окна их сотрудник, а еще один – на чердаке. Помню, один раз на майские праздники такая духота была, что энкавэдэшник наверху в обморок свалился. Мы, жильцы, хотели было ему помочь, а он нас не впустил – ждал, покуда свои заберут. Накануне каждого мероприятия с нас слово брали: будем дома или уедем. И ни разу никто не ослушался. Бывало, если раньше вернешься – демонстрация еще не кончилась, идешь себе на бульвар гулять или еще куда-нибудь…»
Но наряду с бытовыми неудобствами были и преимущества, о которых многие советские люди тогда мечтали: жильцы собора могли из своих окон видеть парады и демонстрации и – главное – Сталина.
«Мы, жильцы, – вспоминает та же женщина, – Сталина из окна высматривали – все ждали, когда на трибуну выйдет. А если колонна демонстрантов шла мимо Мавзолея, когда на нем товарища Сталина не было, люди потом очень сокрушались, даже в истериках бились».
Корреспондент газеты, в которой было опубликовано это интервью, спросил, испытывали ли жильцы чувство стеснения или неловкости не из-за бытовых неудобств, а из-за того, что жили в храме. «Нет, – получил он ответ. – Мне было двадцать лет, но и моя свекровь, и люди более старшего возраста об этом не думали. Наверное, время было другое».
Реставрация Казанского собора остановилась, так как в действительности в Моссовете уже было принято решение о его сносе. Превращение его в жилой дом было временным мероприятием, вызванным недостатком жилья в столице.
В конце 1920 – начале 1930-х годов развернулась массовая общегосударственная кампания по прекращению реставрационных работ и сносу церквей. Кампания имела идеологическую основу и сопровождалась шумной агитационной пропагандой: «разоблачали» церковь и попов, «разоблачали» и ученых-реставраторов. «Они, – писал о реставраторах журнал “За коммунистическое просвещение”, – надували советскую власть всеми средствами и путями. Создав вокруг себя “верное” окружение, они и чувствовали себя в ЦГРМ (Центральных государственных реставрационных мастерских. – В. М.), как за монастырской стеной. Советская лояльность была для них маской. Они верили, что советская власть скоро падет, они ждали с нетерпением ее падения, а пока старались использовать свое положение… Они всегда говорили с пафосом о чистой науке, о чистом искусстве. Они жаловались на то, что при старом, при царско-поповском строе церковь мешала развернуть по-настоящему научно-исследовательскую работу по древнерусскому искусству. Они были всегда столь возвышенными идеалистами – людьми-бессребрениками! А когда пролетарская власть предоставила им возможность полностью отдаваться науке и искусству…. что они сделали, верные сыны буржуазии? Они снова превратили науку в церковь, искусство в богомазню, а все вместе – в обыкновенное церковно-торговое заведение, в монастырь-лавочку». Последнее обвинение было персонально направлено против Барановского, производившего реставрацию Казанского собора на средства общины. Вскоре это же обвинение он услышал на Лубянке.
В сентябре 1933 года П.Д. Барановского и архитектора Б.Н. Засыпкина вызвали в Моссовет к заместителю председателя Усову, который объявил им, чтобы они срочно произвели обмер и фиксацию храма Василия Блаженного, так как он в ближайшие дни будет снесен. Барановский сказал: «Это преступление и глупость одновременно. Можете делать со мной, что хотите. Будете ломать – покончу с собой». Тогда же он послал соответствующую телеграмму Сталину.
Через несколько дней его и Засыпкина арестовали. По статье 58, пункты 10, 11 «антисоветская агитация, организация антисоветской группы» Барановский был осужден на три года лагерей с последующим поражением в правах, в том числе в праве жить в Москве и других крупных городах. Он вернулся из заключения в мае 1936 года и прописался в Александрове – ближайшем к Москве городе, в котором разрешалось жить отбывшим срок по политической статье.