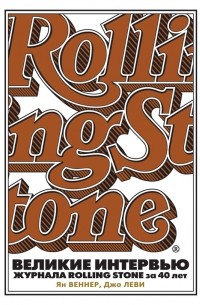Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Пит Таунсенд. Интервьюер Ян Саймон Веннер
Твое выступление обычно заканчивается песней «My Generation», и при этом ты, как правило, разбиваешь свою гитару. Сегодня ты этого не сделал. Почему?
– Ну, причина есть, но это не то, о чем действительно стоило бы говорить. Объясню, о чем я думал, когда это делал.
Да, я разбил много гитар, из них восемь или девять именно таких, на какой играл сегодня, и вполне мог бы разбить и эту, а в дальнейшем еще много гитар. Но просто я вдруг решил, прежде чем приняться за дело, что если и есть место в мире, где я смог бы сойти со сцены, не разбивая гитары, то это – концертный зал «Филлмор».
Я заранее решил, что не хочу разбивать гитару, поэтому и не разбил, а не потому, что она мне нравится, или потому, что я вроде бы решил больше не разбивать гитар. Просто я как бы принял решение относительно данной ситуации: мне было любопытно узнать, смогу ли я убедить себя с этим справиться. И думаю, что именно поэтому песня «My Generation» была совсем ни к чему в конце. Знаете, вообще-то мне совсем не хотелось ее исполнять. Даже не хотелось, чтобы слушатели ее ждали, потому что я просто не собирался ее исполнять.
Но Кит, как обычно, продолжает переворачивать свой барабан.
– Да, но для меня это невероятно личный момент. Я часто выхожу на эстраду и говорю себе: «Сегодня я не буду разбивать гитару и пофиг» – вам известно, как на меня давят, – пусть даже мне захочется сделать это музыкально или как-то иначе, я просто не буду этого делать. Но реальность всегда отличается от мыслей.
Сегодня почему-то я снова сказал себе: «Не буду ее разбивать» – и не разбил. И не знаю, правда, не представляю, почему я этого не сделал. Но, знаете, не разбил – и это впервые. Хочу сказать, что прежде я говорил себе это миллион раз, и ничего не получалось.
Мне кажется, скучно говорить о том, почему ты разбиваешь свою гитару.
– Нет, вовсе не скучно. Скучно иногда это делать. Я могу это объяснить, могу это оправдать и могу это усугубить. Я могу делать многое, драматизировать это и толковать. В основе своей это экспромт. Думаю, разбить гитару – это как с самим исполнением; это исполнение, действие, момент, и на самом деле это неосознанно.
Когда ты начал разбивать гитары?
– В первый раз это произошло случайно. Мы просто дурачились в клубе, где играли по вторникам, и я сломал гриф гитары о низкий потолок; меня это в некоторой степени шокировало – я такого не ожидал. Я вообще не хотел этого делать, но так случилось.
И я думал, произойдет что-то невероятное, ведь гитара была по-настоящему мне дорога. Я ждал, что все станут говорить: «Ого, он разбил свою гитару, он разбил свою гитару», – но никто ничего не сказал. Это меня взбесило, и я решил, что публика должна заметить столь важное событие. Воплощая в жизнь принятое решение, я разбил гитару, носился с нею по сцене и разбрасывал ее куски, а потом взял запасную гитару и продолжил как ни в чем не бывало.
Ты был счастлив?
– В глубине души я был глубоко несчастен, потому что инструмент пропал. Распространились слухи, и через неделю ко мне подошли люди и сказали: «О, нам известно, приятель, так с гитарой еще никто не обходился» – и все такое. С этого как будто все и началось; мы приезжали в другой город, и мне говорили: «Эй, мы слышали, что ты разбил гитару». И это все нарастало, как снежный ком, и вот однажды к нам пришли репортеры весьма известной ежедневной газеты и сказали: «О, мы слышали, что ваша группа крушит гитары. Так мы ждем, что вы и сегодня сделаете это, ведь мы из Daily Mail. Тогда вы попадете на первые полосы».
И это должна была быть всего лишь вторая разбитая мною гитара, правда. И знаете, я пошел к менеджеру, Киту Ламберту, и сказал: «Надо ли, можем ли мы позволить себе это ради известности?» Он ответил: «Да, если попадем в Daily Mail». Я разбил гитару, и, конечно, Daily Mail не купила фотографию и не желала ничего знать об этой истории. После этого я оказался по уши в дерьме и с тех пор разбивал гитары.
Было ли неизбежным твое намерение разбивать гитары?
– Это должно было случиться, потому что я приближался к точке, когда мне надо было бы играть и играть, а, должен сказать, я все еще не могу играть так, как мне бы хотелось. Потом было хуже. Я не мог играть на гитаре; я без конца слушал великую музыку, я слушал всех людей, с которыми встречался. Начав выступать как группа The Who, мы исполняли блюзы, и я балдел от блюза и знал, что от меня требуется, но я не мог его играть. Я ничего не мог поделать. Я знал, что́ должен был играть: музыка жила у меня в голове. Внутренним слухом я слышал ноты, но не мог воспроизвести их на гитаре.
Это ужасно меня огорчало. Я пытался выразить жестами то, чего не мог исполнить как музыкант. Я производил невероятные действия и, чтобы заставить одну струну звучать громче, с размаху ударял по ней, хотя на самом деле ее следовало просто тронуть. Я поднимал руку высоко вверх и ударял по струне так, что казалось, порву ее, пусть даже звук не был слишком громким. Так или иначе, это все копилось, копилось, копилось и копилось, а потом я стал ставить перед собой невероятные задачи.
Как это повлияло на твою игру на гитаре?
– Вместо этого я сказал себе: «Ладно, ты не можешь сделать это музыкально, так сделай это визуально». И я превратился в шоумена. На самом деле, я напрочь забыл о гитаре, потому что моя визуальность стала моей музыкой больше, чем собственно гитара. Я стал прыгать по сцене, а гитара утратила свое значение. Я колотил по ней, и она отзывалась; я царапал ее, тер о микрофон и все такое; она даже не участвовала в моем выступлении. Она не заслуживала ни доверия, ни уважения. Я бил по ней, и бил ею о стены, и бросал ее на пол в конце выступления.
И однажды гитара разбилась. Она просто не была частью меня, и с тех пор я никогда по-настоящему не считал себя гитаристом. Когда ко мне подходят и спрашивают, например: «Кто твой любимый гитарист?», я отвечаю: «Я знаю, кто мой любимый гитарист, но, обращаясь ко мне как к гитаристу, забудьте об этом, потому что я не даю комментариев по гитаре. Я не говорю на языке гитары, а просто ее швыряю». И по сей день я только учусь. Если я играю соло, для меня это развлечение, потому что я не могу играть то, что хочу. Дело в том, что я не могу выбраться из этого, потому что не играю на гитаре. Когда мне следовало бы играть, я пишу песни, а когда я пишу песни, мне следовало бы играть.
Ты сказал, что проводишь почти все время, сочиняя песни в своем подвале.
– Я много пишу во время турне. Много пишу в самолетах. И конечно же дома. Когда я сочиняю песню, то обычно первым делом пишу стихи на основе какой-то идеи, а потом беру акустическую гитару и присаживаюсь к магнитофону, пытаясь постепенно положить стихи на музыку. Пытаюсь добиться сочетания музыки с поэзией. Если это удается, то мне надо добавить еще что-то; могу добавить бас-гитару или барабаны или еще один голос. Вообще-то, я занимаюсь этим ради собственного удовольствия.
Сейчас я работаю над стихами для следующего альбома. В целом замысел альбома сложен. Не знаю, смогу ли я с ходу объяснить его. Но он возник в результате сущей малости. Речь шла о создании оперы, о подготовке альбомов, о многом, и так случилось, что мы вложили все эти идеи, всю эту энергию и все эти хитрости и все, что мы наметили для будущих альбомов, в одну колоритную упаковку. Эта подборка, надеюсь, будет называться «Слепоглухонемой мальчик». Это история ребенка, который родился слепоглухонемым, история его жизни. Слепоглухонемого мальчика представляет группа The Who, коллектив музыкантов. Герой представлен в музыке, представлен в главной мелодической теме, которую мы играем и которой открывается сама опера, – в общем, это песня, описывающая слепого, глухого и немого мальчика. Но на самом деле важно то, что мальчик, поскольку он слепоглухонемой, все воспринимает как вибрации, которые мы переводим в музыку. Вот что мы действительно хотим сделать: создать ощущение, что, слушая музыку, ты можешь на самом деле представить этого мальчика, представить все, что с ним происходит, потому что мы творим его, играя на инструментах.
Да, на самом деле это довольно нетрадиционная вещь. Но она очень, очень дорога мне, потому что она… внутри; мальчик все видит через музыку и во сне, и все такое невесомое… Он ощущает прикосновения извне, прикосновения матери, отца, но он переводит их в музыку. Отец сильно переживает, что его ребенок слепоглухонемой. Он хочет, чтобы его сын играл в футбол и делал бог весть что еще.
Как-то раз ночью пьяный отец садится у детской кроватки, смотрит на ребенка и заговаривает с ним, а ребенок только улыбается, и отец хочет, чтобы сын его услышал, и рассказывает, как другие папы могут взять ребенка с собой на футбол, научить его играть в футбол и все такое, и он спрашивает: «Слышишь?» Ребенок, конечно, не слышит. Он наслаждается этой музыкальностью, невероятной музыкальностью; он в восторге. А отец находится вне его тела, и эту песню напишет Джон. Надеюсь, Джон напишет песню об отце, оказавшемся в крайне трудном положении.
Ребенок не отвечает, просто улыбается. Отец начинает бить его, и с этого момента все становится невероятно реальным. С одной стороны, чудная музыка мальчика, проживающего свою никчемную жизнь. А с другой – реальность отца, которому тяжело, но через удары он обретает связь. Отец бьет ребенка… В музыкальном плане, чтобы вещь заиграла, я хочу передать ее Киту: «Это твоя сцена, приятель, продолжай с этого места».
А ребенок не улавливает насилия. Он только знает, что происходит нечто, что он чувствует. Он не ощущает боли, ни с чем ее не ассоциирует. Он просто ее принимает.
Подобная ситуация происходит в опере дальше, когда отец пытается уговорить мать отдать ребенка дяде. А дядя, знаете ли, сексуальный извращенец. Когда ребенок оказывается у дяди, тот трогает его тело. И именно в это время ребенок слышит, как мать окликает его по имени. Ему удается услышать слово «Томми». И знаете, это великое событие для него – услышать имя, все равно какое. И он действительно обретает опору в своем имени. Он решает, что оно его король и его цель. Томми – это что-то, приятель.
Он проходит через это, и появляется дядя, начинается сцена с телом ребенка, понимаешь, и мальчик испытывает сексуальные вибрации, получает, понимаешь, сексуальный опыт, и вновь звучит незатейливая музыка; это истолковывается как музыка, и это не что иное, как музыка. Здесь нет ассоциаций с нечистоплотностью или с тайными или прочими моментами, обычно ассоциируемыми с сексом. Никакого романа, никакого визуального или звукового стимула. Простейшее прикосновение. Оно бессмысленно. Или не бессмысленно; понимаешь, ты просто не реагируешь. Медленно, но верно ребенок обретает способность постигать, при этом сохраняя наивность, невероятную наивность своей души. Он начинает понимать, что может видеть, слышать и говорить; все это есть и все время происходит. И он все время мог видеть и слышать. Все, что перед ним, все время мог видеть.
Это нелегкий скачок. Будет чрезвычайно трудно, но мы хотим попробовать выразить это в музыке. Тут тема мальчика начинает меняться. Возникает понимание того, что он приближается к тому моменту, когда покорит вершину, преодолеет свои эмоциональные расстройства. Ты перестаешь размениваться на песни о переживающем отце, любящей матери и прочем – ты просто обращаешься к тому, что случится с ребенком.
Музыка должна объяснить происходящее, что мальчик вырастает и обретает нечто невероятное. Для нас нет ничего особенного в том, что мы слышим и говорим, но для него это абсолютно невероятно и ошеломляюще; именно это мы и хотим передать в музыке. В стихах это очень легко сделать; правда, мне это удавалось не раз. Получается высокая поэзия, но так много зависит от музыки, так много. Надеюсь, у нас это получится. Стихи будут хороши, но все трудности того, что мы пытаемся сказать, заключены в музыке, в том, как мы ее исполняем, как интерпретируем, в том, как развивается опера.
Главными действующими лицами будут мальчик и его музыкальные предметы; у него есть мать, отец и дядя. Появится и врач, который попытается оказать психиатрическую помощь ребенку, но не выполнит свою задачу до конца. Первое из двух важных событий в жизни мальчика – это когда он слышит, как мать зовет его, слышит слово «Томми», и теперь значительная часть его жизни состоит из одного этого слова. Второе важное событие – это когда он видит себя в зеркале, видит впервые в жизни. И он отпрянул – теперь вся его жизнь сосредоточена на этом образе. Все теперь сосредоточено на нем самом: музыка и стихи; он начинает говорить о себе, о своей красоте. Он, конечно, не знает, что увиденный им образ – это он сам, но все же считает отражение чем-то принадлежащим ему, ведь именно так и было все это время.
Кажется, эта тема – молодой парень нашего возраста, который становится изгоем при весьма заурядных обстоятельствах, – повторяется, возможно, не столь драматично, во многих написанных тобой и исполненных группой The Who песен. Почему она повторяется?
– Не знаю. Никогда на самом деле об этом не думал.
Прыщавые мальчики, девицы, страдающие излишней потливостью…
– Это мое почти все. Подобно тому, как тоже мое то, о чем я сейчас говорю. Это, вероятно, мои идеи, поэтому они получаются одинаковыми; я уверен, у них одинаковые недостатки.
Понимаете, у меня необычная семья. Мои родители были музыкантами. В основном они принадлежали к среднему классу; понимаете, они были музыкантами, и я проводил много времени с ними, когда родители других детей находились на работе, и я проводил много времени без них, когда другие дети бывали с родителями. Вот так это происходило. Они подолгу отсутствовали. Но и подолгу оставались дома. Они всегда были обходительны со мною – никто никогда не запрещал мне играть на гитаре и никто никогда не запрещал мне курить марихуану, хотя родители и предостерегали меня от этого.
Они не запрещали мне ничего из того, что мне хотелось делать. Половой акт я впервые совершил в гостиной родного дома. Самое невероятное – я просто не знаю, как повлияли на меня мои родители, но знаю, что повлияли. Не могу сказать, каким образом они это сделали. Когда люди узнают, что мои родители музыканты, то задают вопрос, какое влияние они на меня оказали. Хотел бы я знать, черт побери; они не повлияли ни в музыкальном отношении, ни в каком-либо другом. Но, по-моему, я даже не осознаю классовой структуры или возрастной структуры, и все же я постоянно пишу о возрастных структурах и о классовых структурах. На поверхности, мне кажется, я сосредоточен на расовых проблемах и политике. В глубине – на гораздо более простых вещах.
Должно быть, ты думал о том, откуда это все, если не от родителей. Возможно, твое окружение в юности?
– То, что произвело на меня наиболее сильное впечатление в жизни, было движение модов в Англии, невероятное молодежное движение. Это движение захватило гораздо больше молодежи, чем движение хиппи, андеграунд и тому подобное. Это было войско, мощное, агрессивное войско тинейджеров с транспортными средствами. Ребята со своими мотороллерами и собственной модой. И что важно, она была приемлема; их одежда была стильной, модной, опрятной и привлекательной. Ее можно было носить, будь ты даже банковским клерком. Все зависело от того, кто ты. Люди думали: «Какой элегантный молодой человек». А ты был стилягой, но не напрягал окружающих. И это было хорошо. Чтобы стать модом, следовало коротко стричься, иметь достаточно денег на по-настоящему модный костюм, добротную обувь, хорошие рубашки; и ты должен был уметь танцевать как сумасшедший. И всегда должен был иметь много «колес», которыми ты должен был накачиваться. Ты должен был иметь мотороллер, весь в фонариках. Ты должен был иметь нечто вроде армейской куртки с капюшоном и надевать ее, когда едешь на мотороллере. Вот каким был мод, такие вот дела.
С модами также ассоциировалась музыка The Who. Вот почему мне нравятся моды, парень, потому что мы были модами и из них вышли. Это мое поколение, и поэтому сложилась песня «My Generation» – из-за модов. Моды смогли оценить вкус The Beatles. Они смогли оценить их стрижки и все их «фишки».
И случилось так, что феномену The Who удалось побудить людей к действию. Факт в том, что четверо модов смогли на самом деле объединиться в хорошо звучавшую группу, учитывая, что почти все моды были мусорщиками из низшего класса, знаешь ли, но имевшими достаточно денег, и могли, знаешь ли, купить себе лучший выходной костюм. В наши дни, о’кей, совсем немного таких групп. Но моды не те люди, которые могли играть на гитаре, – им было просто интересно создать группу. В то время наша музыка представляла собою то, что нравилось модам, и была бессмысленным мусором.
Мы играли, например, «Heat Wave», весьма длинную версию «Smokestack Lightning» Хаулина Вулфа, и, как и сегодня, пели песню «Young Man Blues»; это довольно непоследовательный набор музыки, которую они считали своей, и, возможно, что-то такое, подо что ты начинал топать на третьем такте или хлопать на пятом. Да нет, им нравилось все. Они были модами, и мы тоже моды, и мы их любим. Когда мы знали наверняка, что где-то будет тусовка модов, там мы и играли. Таким местом был Брайтон.
У моря?
– Да. Именно там они обычно собирались. Мы всегда играли там. И нас ассоциировали со всем этим, и мы были в духе этого всего. И конечно, рок-н-ролл, даже смысла нет упоминать это слово; то, что музыка становилась частью этого движения, было потрясающе. Музыка рождалась из драйва самой молодежной тусовки.
Видишь ли, как личности эти люди ничего собой не представляли. Они принадлежали к самым низам, самые низшие «общие знаменатели» в Англии. Не просто молодежь, но молодежь из низов. Им пришлось приспособиться к моде среднего класса, говорить и вести себя, как представители среднего класса, чтобы получить ту работу, которая позволяла им выживать. Им пришлось приспособиться к тем правилам, что уже вокруг них существовали. Поэтому их способ продвижения был не так уж эффективен; они как были стилягами, так ими и остаются. Тем больше жизни в этом движении. Оно было невероятным. Трудно вообразить, какая это была сила, все эти дети военных; ветераны вернулись с войны, и давай строгать детей – и вот вам результат. Тысячи и тысячи детей, слишком много детей – на них не хватало ни учителей, ни родителей, ни «колес». Все просто были обречены стать модами.
Не помню, читал ли я об этом или мне рассказал Глен Джонс. Ты и твоя группа вышли из криминогенной, бандитской среды, были неугомонными и делали вот что: ты был готов рисоваться перед каждым; ты был парнем с большим носом, и тебе хотелось заставить всех вокруг полюбить его, твой большой нос.
Вероятно, это мешанина из того, что рассказывал Глен, и написанной мною статьи. Да, Глен был именно тем человеком, перед которым мне хотелось рисоваться. Как раз когда я вошел, Глен стоял на сцене и пел. Я вошел, потому что обожал его группу. Я часто ходил на его выступления, а он объявлял в микрофон: «Посмотрите на того парня с огромным носом» – и, конечно, все поворачивались, чтобы посмотреть на меня, и этим Глен выражал свою признательность.
Когда я ходил в школу, чудаки, одетые по старинке, с такими древними девицами, что даже не верилось, что они еще живы, любили посудачить про мой нос. Он, мой чертов нос, казался мне, парень, самым главным в моей жизни. Бывало, отец выпьет, подойдет ко мне и скажет: «Послушай, сынок, знаешь ли, внешность еще не все» – и выругается. Набравшись, он стыдился меня, моего огромного носа и пытался подбодрить меня. Я знаю, что нос большой, и это, конечно, просто невероятно, я стал врагом общества. Мне пришлось через это пройти. Я справился и до сих пор не могу в это поверить, но я больше не думаю о моем носе. И если бы я сказал так, когда был ребенком, если бы я когда-либо сказал себе: «Когда-нибудь ты проживешь целый день, парень, ни разу не вспомнив, что твой нос самый большой в мире», – знаешь, я бы рассмеялся.
Он был огромен. В то время именно поэтому я брался за любую работу. Играл на гитаре – из-за моего носа. Писал песни – из-за моего носа, все песни. Я как-то намекнул на это в одной статье, где сделал более логичный вывод, рассуждая о моей нынешней работе. Я сказал, что мне было нужно одно – отвлечь внимание от моего носа и перенести его на мое тело, заставить людей глядеть на мое тело, а не на мое лицо – превратить мое тело в механизм. Но к тому времени, когда я полностью ушел в такие визуальные занятия, я, так или иначе, забыл про свой нос и про бахвальство и подумал, что если нос большой, то он заметен, а это самое главное в жизни, потому что, ну, не знаю, он словно маяк или вроде того. Так или иначе, но к тому времени мое поведение совершенно изменилось.