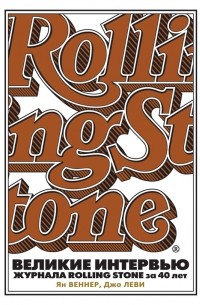Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Джонни Кэш. Интервьюер Роберт Хилберн. 1 марта 1973 года
Похоже, музыка изначально составляла важную часть вашей жизни. Не помните, когда вы впервые услышали музыку?
– Самое раннее воспоминание: мама играет на гитаре. Я еще не ходил в школу. Мне было лет пять, не больше, но я помню, как вместе с ней пел. Много песен семейства Картер. Не помню, какие именно, но знаю, что это были церковные песнопения, госпел.
Ребенком вы не только слушали музыку, вам приходилось работать на ферме. Оказало ли это существенное влияние на формирование вашего характера?
– Тяжелая работа? Не знаю. Уборка хлопка – это нудная работа. Не знаю, была ли она вообще мне полезна. Не знаю, полезна ли вообще нудная работа.
Но создается впечатление, что вы сочувствуете людям, выполняющим тяжелую работу, хотите подбодрить их своей музыкой, внушая, что их жизнь имеет смысл.
– Да. Я очень уважаю людей, которые не чураются работы. Не думаю, что человек может быть счастлив, если не трудится. И я усердно тружусь над своей музыкой. Вкладываю в нее много мыслей. Недосыпаю, провожу бессонные ночи, думая о своих песнях и о том, что хорошо и что плохо в моей музыке. Переживаю, стоило ли выпускать последнюю пластинку, не мог бы я записать ее лучше. Иногда мне кажется, что последняя пластинка была точно такой же, как и релиз четырнадцатилетней давности. Я думаю: не буксую ли я иногда, продвигаюсь ли я вперед, расту ли музыкально, артистически? Мне кажется, я миллион раз цитировал Боба Дилана, его строчку: «Тот, кто не трудится после своего рождения, трудится над своей смертью». Я всегда так и думал.
Вернемся к вашему детству. Каким был ваш следующий шаг – в музыкальном плане?
– Я сам начал писать песни, когда мне было лет двенадцать. Начал писать стихи, а потом подбирал к ним музыку. Это были песни о любви, грустные песни. Думаю, виной тому впечатление от смерти моего брата Джека; он умер, когда мне было двенадцать лет. Мои стихи в то время были ужасно грустными. Я был очень дружен со своим братом.
Вы пели свои песни в домашнем кругу? Как они воспринимались?
– Ну, вы знаете, как бывает в семьях. Папа гладил меня по голове и говорил, что все неплохо, но лучше подумать о чем-то, что обеспечит в будущем кусок хлеба. Мама на сто процентов одобряла мою музыку. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, она решила, что я должен брать уроки игры на фортепьяно и пения. Она даже работала прачкой, чтобы заработать на это деньги.
Когда вы впервые пели для публики?
– Кажется, на выпускном вечере в средней школе. Я пел «Trees» Джойса Килмера. В подростковом возрасте у меня был высокий голос, тенор. Я пел в сопровождении фортепьяно. Очень волновался. И больше не выступал до тех пор, пока не демобилизовался.
Было ли у вас предчувствие, когда вы уходили служить в авиацию, что не будете по-настоящему заниматься музыкой?
– Нет, я всегда знал, что буду заниматься музыкой. Правда, знал. Всегда знал. Помню, еще во время службы я написал брату, что начну записываться в тот же год, когда демобилизуюсь. Во время службы в Германии я написал песню «Folsom Prison Blues». Написал ее ночью после просмотра фильма «За стенами Фолсомской тюрьмы». Еще будучи летчиком, я написал также «Belshazzar» и «Hey Porter».
Когда вы вернулись в Мемфис, как вы начали заниматься музыкальным бизнесом?
– Я узнал о студии Sun Records в Мемфисе. Примерно в то время они были в запарке с Элвисом, поэтому я позвонил и попросил, чтобы меня прослушали. Помню, как я волновался, первый раз переступая порог студии. Там были Сэм Филлипс и его секретарша мисс МакГиннис. Они даже не помнили, что пригласили меня на запись. Я услышал первое из семи «Приходите позже». Я сказал Филлипсу, что пишу песни в жанре госпел. Я думал, что «Belshazzar» – это лучшая песня, которую ему покажу. Он сказал: «На рынке госпел не пользуется спросом. Приходи, когда у тебя будет что-то еще».
Но позднее мы встретились и, кажется, записали в тот же день «Hey Porter». Первая сессия – это было нечто. У Лютера Перкинса был небольшой подержанный усилитель Sears с шестидюймовым динамиком. У Маршалла Гранта был контрабас, обмотанный клейкой лентой. У меня была гитара за четыре доллара восемьдесят центов, привезенная из Германии. Должно быть, Филлипс был гением, потому что извлек нечто из этого барахла.
Вскоре после выхода «Hey Porter» я вернулся в студию и записал все свои песни и несколько чужих. Дело пошло быстро, и это будоражило. Помню, однажды я пришел в студию, а там оказались Элвис и Джерри Ли Льюис. Спустя несколько минут пришел Карл Перкинс, и мы вчетвером стояли у фортепьяно и распевали гимны. Кажется, мы пели часа два; и, как я понимаю, Сэм включил магнитофон и записал десяток гимнов в исполнении этого «квартета».
Как вы познакомились с Лютером Перкинсом и Маршаллом Грантом?
– Мы познакомились в гараже, где работал мой брат. Они были механиками и просто баловались музыкой. Рой сказал, что оба играют на гитаре. Маршалл в то время ни разу не прикасался к бас-гитаре. И вот мы встретились – три гитариста. Мы пытались заставить Маршалла начать играть на бас-гитаре, а Лютер согласился попробовать играть на электрогитаре. Мы понимали, что нам нужны хорошие инструменты.
Как вы делали аранжировки?
– Я просто все держал в голове, показывал Лютеру ноты на гитаре, а он проигрывал их до тех пор, пока не выучивал.
Как выработался звук Джонни Кэша?
– Этот «бум-чик-э-бум»? Лютер снял металлическую пластинку с гитары Fender и сделал сурдинку, потому что, как он сказал, он играет так неровно, что ему стыдно, и он попытался приглушить звук.
Что сказал Филлипс, услышав такой звук?
– Он счел его по-настоящему коммерческим. Этот звук просто привел его в восторг.
Что вы почувствовали, держа в руках первую пластинку? Должно быть, это был для вас великий день?
– Это было самое фантастическое чувство, какое я испытал в жизни. Помню, как я подписывал контракт в день выхода пластинки. В тот день я ушел из студии, держа в руках контракт и сингл «Hey Porter». И с пятнадцатью центами в кармане. Помню, вышел из студии и увидел какого-то бездельника. И отдал ему пятнадцать центов. Правда. Потом я отнес пластинку на радио, держа ее так, как будто это картина старого мастера. А диск-жокей уронил ее, и она разбилась. Случайно. Только на следующий день я смог получить другую пластинку. Душераздирающее событие. Но пластинку долго крутили на радио, особенно на Юге. Боб Нил, первый импресарио Пресли, позвонил мне, он хотел, чтобы я принял участие в нескольких концертах вместе с Элвисом. Прежде всего я выступил на эстраде «Овертонпарк» в Мемфисе. Я исполнил песни «Hey Porter» и «Cry, Cry, Cry». И они были хорошо, очень хорошо приняты.
Пластинка «I Walk the Line» имела для вас большое значение. Испытали ли вы, записав ее, какое-то особенное чувство?
– Я думал, что это очень хорошая песня, но не был уверен в записи. Когда впервые услышал ее по радио, я был во Флориде и позвонил Филлипсу с просьбой не делать копии. Запись показалась мне такой плохой. Мне казалось, что пластинка ужасна. И он сказал: «Давай дадим ей шанс и посмотрим». Но я не соглашался. Мне хотелось тогда же с ней покончить. Я поссорился из-за нее с Сэмом. Мне казалось, что она звучит так плохо. И до сих пор плохо звучит.
Ваш голос или аранжировка?
– Аранжировка. И мне не нравился саунд, модуляции и все остальное. Но оказалось, именно это и сделало пластинку такой продаваемой.
В этом Сэм оказался прав.
Почему вы впоследствии расстались со студией Sun Records?
– Из-за расхождений по некоторым деловым вопросам. Филлипс спустя три года продолжал платить мне как новичку, а я считал это неправильным. Но, самое главное, я знал, что способен на многое с более громким лейблом. Например, я мог бы записать альбом с гимнами для студии Columbia, а в то время мне это было важно.
Каким было возвращение на родину, в Арканзас, когда вы стали знаменитостью?
– Ну, для земляков я так и остался деревенским парнем. То есть я не представлял для них особого интереса. Во многих местах, где я бывал в те дни, я чувствовал себя знаменитой звездой радио, какой я и мечтал стать, и это было приятно.
Я этим просто упивался. Но на родине старики подходили ко мне и говорили: «Парень, помню, как ты доставлял мне пахту каждый второй четверг» – или что-то в этом роде.
Было ли что-то, из-за чего вы теряли контакт с этими людьми? В тяжелые времена, когда вы уже не думали о них как о друзьях?
– Да, верно. Мне казалось, что я там чужой, и лет семь туда не возвращался. Я не мог общаться с этими людьми. Не хотел, чтобы меня видели.
Это было плохое время для вас, таблетки и прочее?
– Да, вскоре я перебрался в Калифорнию. До сих пор не знаю, почему именно в Калифорнию. Мне там понравилось, я там довольно много сочинил и подумывал остаться там жить. Но на самом деле я был там чужим. Никогда не чувствовал там себя в своей тарелке. Пытался, но не смог. Я пристрастился к амфетаминам. Употреблял их семь лет. Просто нравилось создаваемое ими ощущение.
Это был подъем?
– Да, создается ощущение подъема, а при некоторых обстоятельствах обостряются все твои чувства – таблетки внушают мысль, что ты величайший сочинитель в мире. Просто пишешь песни ночь напролет и просто любуешься своей работой, тащишься от себя и все время глотаешь таблетки. Потом, придя в себя, понимаешь, что все не так уж хорошо. Когда я просматриваю написанное мною тогда, мне всегда становится тошно… необдуманное, невероятное, смехотворное нагромождение звуков – поверить невозможно.
Снова принимаешь таблетки, чтобы заглушить чувство вины. И я привык чередовать возбуждающие средства с антидепрессантами, образовался порочный, порочный круг. И это меня засасывало. Но главное, я думал, что я стальной и мне все нипочем. Я разбивал все легковушки, все грузовики, все джипы, которые мне случалось водить на протяжении тех семи лет. Как-то раз я решил сосчитать все свои поломанные кости. Кажется, получилось семнадцать. По милости Божьей ни одна из этих костей не оказалась моей шеей.
Впрочем, через некоторое время после начала употребления амфетаминов начинаешь осознавать, что они медленно сжигают тебя. Потом ты превращаешься в параноика, думаешь, что все против тебя ополчились. Ты никому не веришь – даже тем, кто тебя больше всех любит. Теперь это напоминает дурной сон.
Был ли момент в вашей жизни, когда вам показалось, что вы на дне? Вроде того случая в Джорджии, когда вы очнулись в тюрьме?
– Да, это случилось в 1967 году. Именно тогда все стало меняться. Но это было лишь одно из многих моих пробуждений. Знаете, тот случай был описан во множестве книг и журналов, но то был лишь один из десятков или сотен раз, когда я приходил в себя и осознавал, что что-то хорошее должно случиться со мной, что я должен собраться с силами, что жизнь должна измениться в лучшую сторону.
Я семь лет работал над собой и почувствовал, что прошли семь хороших лет и наступает хорошая жизнь. Я действительно почувствовал в 1967 году, что впереди – семь значительных лет.
Как вы начали выходить из этих плохих времен?
– Ну, по-настоящему это началось примерно тогда, когда мы с Джун поженились. Любовь в мою жизнь пришла одновременно с началом духовного роста. Большую роль в этом сыграла религия. Религия, любовь – это одно и то же, насколько я понимаю, потому что для меня религия – это именно любовь. Примерно тогда, когда я женился на Джун, мы начали духовно расти вместе. И это проявилось на сцене.
Публику не проведешь. Себя не проведешь. Сразу видно, ты на сцене или не ты. Теперь я действительно счастлив. Но это не значит, что я удовлетворен. Мне все еще надо расти как исполнителю, как артисту, как личности. Поэтому я продолжаю усиленно над этим работать. Выходя на сцену, я всегда ощущаю страх. Всегда боюсь, что кто-нибудь забросает меня яйцами, и все такое.
Как вы готовились физически и эмоционально к записи в те трудные годы?
– Я пропустил много записей. Приходил в студию одурманенный, и мне было без разницы, в каком я состоянии. Просто собирал всю свою волю в кулак и пытался играть. Это заметно на многих моих записях.
Что привлекло вас в Бобе Дилане?
– Я думал, что он один из лучших певцов в стиле кантри, каких я когда-либо слышал. Правда. Мне нравилось, как он исполняет песни, с таким привкусом кантри, со звуком кантри. «World War III Talkin’ Blues» и все песни в альбоме «Freewheelin’» – не думаю, что где-либо может быть больше кантри. Конечно, стихи Дилана сразили меня, и мы стали переписываться. Почти год мы переписывались, а потом встретились.
Когда я впервые услышал один из его альбомов, я играл здесь, в Лас-Вегасе. Я прослушал его альбом за кулисами, в гримерной, и написал ему, как мне нравятся его песни; он ответил на мое письмо и многословно выразил свое отношение к моим песням, сказав, что ему они тоже нравятся. Дилан помнил меня со времени песни «I Walk the Line», тогда он жил в Хибинге, Миннесота. Я пригласил его приехать ко мне в Калифорнию, но когда он впоследствии приехал, то не смог найти мой дом.
Я получил еще одно письмо из Кармела, но ко времени моего ответа Дилан уже вернулся в Нью-Йорк. Когда я вскоре оказался в Нью-Йорке, Джон Хаммонд сказал мне, что Боб в городе. И вот он приехал, и мы встретились в студии Columbia Records. Мы провели вместе несколько часов, разговаривали о песнях, пели друг другу, и он пригласил меня к себе в Вудсток. После Ньюпортского фестиваля он пригласил меня к себе снова.
Говорят, что Дилан замкнутый или зажатый, что с ним трудно общаться. Вы тоже так считаете?
– Вообще-то мы не вели долгих разговоров. Между нами существует взаимопонимание. Я никогда не пытался влезть в его личную жизнь, а он – в мою. Если он замкнут и с ним трудно общаться, я понимаю почему. И я его не осуждаю. Так много людей пользовались им, пытались провести его, сближаясь с ним, что я не хотел бы осуждать его за то, что он замкнут и что до него не достучаться. Все советуют ему, что ему писать, как думать, что петь. Но ведь это же его дело.
Давайте поговорим о ваших песнях. Помните что-нибудь особенное?
– Конечно, почти все мои песни навевают воспоминания. При каких обстоятельствах они были написаны, где я был, когда они вышли, и так далее.
Помню, «Train of Love» я написал в 1955 году, на шоу Louisiana Hayride в Шривпорте. Там оказался и Сэм Филлипс. И я позвал его в гримерную и спросил, что он думает о песне. Она ему очень понравилась. На следующей сессии мы ее записали.
Я написал «Give My Love to Rose» примерно в десяти кварталах от тюрьмы в Сан-Франциско. Однажды ночью я играл там в клубе, в 1956 году, когда впервые приехал в Калифорнию. И один парень, бывший заключенный, пришел за кулисы поговорить со мной о Шривпорте. Он был оттуда родом. Не уверен, что его жену зовут Розой, но она жила в Шривпорте, и он сказал нечто вроде «скажи моей жене, что я ее люблю, если вернешься в Шривпорт раньше меня». Его только что выпустили из тюрьмы. В ту ночь я написал эту песню.
«Big River» я написал как протяжную песню в стиле блюз. Помню, что сидел на заднем сиденье машины, проезжая через Белые Равнины, и напевал: «Я у-чил плаку-чую и-ву плакать»… Да, протяжная песня, и в стиле блюз.
Я написал «Hey Porter», когда был за морем. Это была песня, в которой я выразил тоску по Югу. «So Doggone Lonesome» я написал с мыслью об Эрнесте Таббе. Много раз я писал песни, представляя себе певцов, но на самом деле не собираясь даже дать послушать им эти песни, а только думая об этих певцах. После того как я записал «So Doggone Lonesome», Табб услышал ее и тоже записал. «Get Rhythm» я написал для Элвиса. Но он ее услышал, только когда я ее записал. «Come in Stranger» – просто песня о жизни в пути.
Разве вы не подсказали Карлу Перкинсу идею песни «Blue Suede Shoes» («Голубые замшевые ботинки»)?
– Помнится, ребята в армии говорили: «Не наступай на мои голубые замшевые ботинки». Мне показалось, что это хорошая строка, и я посоветовал Карлу вставить ее в какую-нибудь песню. Но он сам ее написал. Это его песня.
Вы много думаете о будущем?
– Я просто чувствую, что время идет, и делаю то, что считаю правильным для себя в данное время. Не собираюсь обгонять кого-то или что-то.
Вы оптимист?
– О, да. Конечно. В моей жизни было семнадцать хороших лет, если говорить о моей музыке. Это были добрые для меня годы. Да все годы были для меня добрыми. И я не вижу ничего, кроме подъема в том, что касается музыкального бизнеса. Я оптимист, потому что верю, что музыкальным бизнесом будут заниматься настоящие таланты. Подлинные таланты всегда будут. Ничто не сможет заменить человека. Можно владеть всеми синтезаторами Муга, но ничто не заменит человеческое сердце.