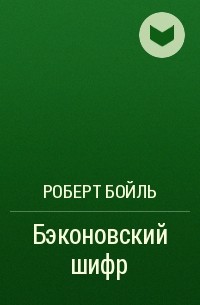Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Шекспир-Бэконовский вопрос прошел два фазиса. До 1889 года бэконианцы ограничивались по преимуществу одними теоретическими домыслами в своем диком походе против Шекспира.
Но с 1889 года для Бэконовского вопроса наступила новая эра: бэконианцы объявили, что открыли шифр, которым Бэкон пользовался при писании своих драм, изданных «под именем Шекспира» и после этого открытия утихшая было полемика против бэконианцев разгорелась снова. Правда на первых порах многие серьезные шекспирологи решили совсем не обращать внимания на новый фазис Бэкономии. В этом смысле высказалось напр. Немецкое Шекспировское Общество в 20-м Jahrbuch'е своем. Но уже в 24-том Jahrbuch'е известный проф. Лео выступил с очень резкой статьей против американца Донелли, изобретателя Бэконовского шифра, изобличая его в обмане. Странно, однако, что среди всех обличительных статей против Донелли в Shakespeare Jahrbucher нет ни одной, в которой обращено было-бы внимание на язык будто бы раскрытого шифра. A между тем, именно филологическая критика наиболее ясно показывает шарлатанство Донелли. Очевидно, что если в драмах, приписываемых Шекспиру, открыли записи Бэкона, то они должны быть написаны на язык Бэконовского времени. Не мог Бэкон, например, пользоваться словами, неизвестными в его время, или же употреблять слова в том смысле, какой они приобрели через долгое время после смерти не только Шекспира, но и его самого. Таково напр. слово «quality». Во времена Шекспира оно обозначало актерскую профессию, и только в конце XVII-го века стало обозначать знатных и имеющих высокое положение в обществе людей – в этом смысле оно употребляется и теперь. A между тем Донелли, приписывая Бэкону грубую брань против актера Шекспира, приводит затем дальнейшие слова философа, утверждающего, что актер Шекспир копил деньги с целью возвыситься «to the ranks of the quality» (до уровня знати). Эта фраза ясно доказывает выдуманность шифра, ибо Бэкон не мог употребить слово quality в смысле аристократизма.
Но, несмотря на это ясное доказательство подделки шифра, бэконианцы приняли теорию Донелли и стали пропагандировать ее, убеждая своих сторонников не качеством, a подавляющим количеством материала – хотя и совершенно вздорного. Им действительно удалось убедить в своей правоте некоторых доверчивых и недалеких людей. Так, например, граф Фитцтум фон-Экштедт, издал в 1888 г., в Штутгарте, книгу «Shakespeare und Shakespere», в которой пресерьезно доказывал, что имя драматурга было Shakespeare, a имя актера Shakespere. Граф Фитцтум говорит об «открытии» Доннелли с истинным благоговением и преклоняется перед ним, как пред великим авторитетом. «Мы должны ему верить», наивно говорит он, «потому что ведь он в своем отечестве занимает должность судьи». Впрочем, кроме наивного немецкого графа, и люди похитрее поддались обману. Борман, который тоже поверил в подделку Донелли, не подвергая ее никакой критике, пропагандировал его открытие с большим успехом. Он сам выдал себе патент добросовестного исследователя истины, и полуобразованная публика поверила ему, не подозревая, что он наделал сотни самых ужасных ошибок в своих исследованиях, и что все это изобличено в специальных изданиях, посвященных Шекспиру. Таким образом он спокойно извлекал выгоду из своих многочисленных брошюр, жалея только о том, что немецкая публика менее щедро оплачивает его труды, чем американцы выдумки Донелли.
Впрочем, Донелли, хотя он и хвастает тем, что получил тридцать тысяч долларов за открытый им Бэконовский шифр, уже не пользуется в последнее время исключительным вниманием американской публики. Славу его затмили новые деятели по бэконовскому вопросу: д-р Оуэн из штата Детруа с целой свитой дам, из которых наиболее прославилась м-сс Э. В. Галлоп (Е. W Gallup). Она окончательно отвлекла внимание публики от Донелли. Тот открыл только один шифр Бэкона, a м-сс Галлоп говорит о ряде шифров; она даже преподносит читателям целую страницу слов, составляющих ключ, при помощи которого каждый может сделать, как она уверяет, столь-же замечательные открытия, как она сама. Само собой разумеется, что читатель, который вздумал-бы воспользоваться этими уверениями, убедился-бы, что мнимые ключи ни к чему не приводят, если ими орудует не сама м-сс Галлоп. Но её рассчет вполне верный: он основан на том, что всякий наивный читатель, сделав напрасную попытку воспользоваться «ключем» м-сс Галлоп, приходит к печальному выводу, что он недостаточно умен и проницателен, чтобы идти по её следам, и потому умолкает, преклоняясь перед её авторитетом.
Книга м-сс Галлоп вышла в 1903 г. под заглавием: «The Bilateral Cipher of Sir Francis Bacon discovered in his works and deciphered by m-rs Elisabeth Wells Gallup». Предугадывая естественное желание читателя увидеть черты лица женщины, сделавшей столь великое открытие, м-сс Галлоп поместила на первой странице книги свой портрет. Книга действительно полна самых необычайных открытий. Прежде всего, она сообщает, что Бэкон – автор сочинений Эдмунда Спэнсера, Шекспира, Пиля, Джонсона, Грина, Марло и Букстона (Anatomy of Melancoly)! Кроме того оказывается, что Бэкон не только написал сам все эти произведения, в том числе шестьдесят драм, но и вписал в них особым шифром свою собственную биографию, a также биографию своего несчастного брата, графа Эссекса. Да, граф Эссекс оказывается братом Бэкона, a оба они сыновья графа Лэйстера и – королевы Елизаветы! Бедные историки совсем не знали до появления книги м-сс Галлоп, что в то время, как Елизавета была заключена в Тоуэр королевой Марией, Лэйстер был заключен в ту же тюрьму; Елизавета, охваченная страстной любовью к Лэйстеру, тайно обвенчалась с ним. Первым ребенком от его брака был Бэкон, которого отдали сэру Никласу Бэкону, воспитавшему его в качестве своего родного сына. Вторым сыном от этого брака был граф Эссекс, которого усыновила и воспитала Летиция Деверэ («маленький восточный цветок» из «Сна в летнюю ночь»). Таким образом, Эссэкс и Бэкон были братьями и сыновьями Елизаветы. Однако, эти с ног сшибательные исторические открытия встречают некоторые докучные возражения. Так, напр., совершенно точно установлено, что Бэкон родился в 1561 году – эту дату едва-ли может изменить даже шифр м-сс Галлоп и её вдохновителя д-ра Оуэна. Время-же заключения Елизаветы в Тоуэр тоже вполне установлено – оно относится к 1554 г. и длилось от февраля до мая. Но что значит для м-сс Галлоп какие-то даты?
Исходя из своей основной лжи, рассказанной к тому-же очень вяло и неинтересно, м-сс Галлоп продолжает нанизывать одну на другую целый ряд других нелепостей, превращая бедного Бэкона в какую-то ноющую старуху, которая вечно жалуется на свои несчастья. В приписываемых ему излияниях он повторяет сотни раз свои жалобы на жестокосердную мать, которую называет французским словом «mère». В шестнадцать лет будто бы он узнал тайну своего рождения от проболтавшегося слуги и вследствие этого его тотчас-же услали во Францию. Там он страстно влюбился в Маргариту, жену Генриха Наварского. Но даже любовь не изменяет нытья, которое навязывает ему м-сс Галлоп. Стиль Бэкона в её книге может сравниться по своей надоедливости только с языком самой м-сс Галлоп, когда она считает нужным вести рассказ от своего собственного имени, хотя в сущности даже, нельзя назвать рассказом её хаотическое накопление совершенно не разработанного материала. То, что она называет биографией Бэкона, изложено на двух страницах. Она заставляет Бэкона осуждать самого себя за свое предательское поведение по отношению к Эссексу во время суда над ним, но он говорит, что был принужден волей своей матери всячески добиваться обвинительного приговора над братом. М-сс Галлоп, очевидно, не сознает, что она чернит Бэкона придуманными ею оправданиями еще больше, чем историки, осуждающие его поведение в этом несчастном процессе. О другом, главном позоре жизни Бэкона она говорит следующее: «Три года спустя его судили за взяточничество и приговорили к тюремному наказанию и большому штрафу, но приговор был отменен, так как несправедливость его была слишком очевидна, чтобы его можно было-бы привести в исполнение». В действительности же приговор не был отменен, и несправедливость его никогда не была доказана. Никто, кроме м-сс Галлоп, не брал на себя смелости утверждать нечто подобное. Единственное извинение для Бэкона заключается в том, что таковы были нравы его времени – и в сущности, чем меньше говорить об этой истории, тем лучше для памяти Бэкона.
Воспроизводя собственные слова Бэкона, м-сс Галлоп до известной степени считает нужным передать их в орфографии ХИИ-го и XVII века. Эта цель ей кажется вполне достигнутой, когда она заменяет апострофом букву «е» в определенном члене и «f» в предлоге of, да переменяет иногда «y» на «ie»; по её мнению, этого достаточно, чтобы воссоздать английский язык времени Елизаветы. Если проверить, однако, подлинность Бэконовского языка в её изложении, то легко открыть множество слов, не бывших в употреблении в XVI и XVII веках. Но м-сс Галлоп столь-же мало стесняется точностью языка, как и точностью исторических фактов. Известно, что форма «its» только начинало выходить в употребление во время Шекспира. В восьми случаях, когда оно встречается в его последних драмах, оно напечатано в изд. in folio 1623 г. в форме «it's». В более ранних драмах встречается только it'. И только позднейшие издатели по невежеству переделали его в its. М-сс Галлоп, которая так любит апострофы, к сожалению, не знает этой маленькой подробности и без всякого зазрения совести вводит в свой шифр its. На странице 38-й она воспроизводит шифр из «Тита Андроника», по изданию 1611 года, a на предыдущих двух страницах шифр из «Гамлета», составлен тоже по изданию 1611 г. Но, очевидно, что если шифр находился в издании 1611 г., то он был и в более ранних изданиях. И увы, на 38-й странице она приводит следующую шифрованную фразу из «Тит Андроника»: But knowing alsa that truth crushed dy its one strong enemy, errour…
Тут Бэкон употребляет в своем тайном шифре слово, которое он не употреблял в своих подлинных произведениях и которое не было в употреблении в его время. На странице 107-й, где м-сс Галлоп раскрывает шифр, будто-бы найденный ею в «Новом Органоне» помещена следующая фраза: «That secrets of great value might safelie be entrusted to its keeping». «Новый Органон» помечен 1620-м годом и появился непосредственно после «Quip for an upstart Courtier» Грина, помеченного также 1620 годом. М-сс Галлоп не говорит, написал-ли Бэкон свой шифр специально для этого издания – для этого y неё все-таки не хватает беззастенчивости. На 27-й странице опять слово «its» цитируется из Advancement of Learning, написанного в 1605 г., т. е. ранее, чем оно появляется y какого-либо автора. Уже эта одна мелкая подробность ясно доказывает, что шифр м-сс Галлоп подделан самым не искуссным и шарлатанским образом. Много других слов языка нашего времени, которые м-сс Галлоп в своей наивности вводит в шифр Бэкона, ясно доказывают, до чего весь этот шифр выдуман.
Среди всей массы невежественных подделок, которыми полна книга м-сс Галлоп, следует указать на один перл. Она приписывает Бэкону следующие слова о радостях, которые ожидают того, кто в будущем раскроет его шифр и поймет его скрытые мысли: «Gems rare and costive shine upon its sides»: «Драгоценные камни, редкие и costive сияют вокруг». Но, слово costive обозначает болезнь желудка – a до сих пор никто не предполагает, что драгоценные камни подвержены ей.
Если-бы оставалось еще какое нибудь сомнение относительно подделки шифра, то стоит только взглянуть на «двухсторонний» шифр м-сс Галлоп, чтобы вполне убедиться в её шарлатанстве.
Она берет его из девятой книги Бэконовского «De Augmentis»:
A B C D E F
Ааааа aaaab aaaba aaabb aabaa aabab и т. д. Есть-ли надобность выписывать всю азбуку, чтобы доказать невозможность пользоваться подобным двухсторонним шифром, a тем более написать им ни много, ни мало шестьдесят драм и еще множество других произведений!
М-сс Галлоп дает нам представление о подобной драме, напечатав по своему шифру «трагедию» Анны Болэйн. Но это ничто иное, как целый хаос цитат из всех ранних и позднейших драм Шекспира, нанизанных на драму «Генрих VIII-й». Нужно отдать справедливость м-сс Галлоп, что если целью её было изъять всю поэзию из драм Шекспира, то это ей вполне удалось в данном случае.
Мы видим таким образом, что Бэконовский вопрос, или, вернее, Бэконовское безумие, вошло в новый фазис с появлением Донелли, и достигло вершины наглости в книге м-сс Галлоп. Быть может её учитель, д-р Оуэн, превосходит ее в этом отношении, но до сих пор он не известен далее своей родины.
Все эти подделыватели прежде всего полные невежды относительно всего, что касается поэзии. Если кто либо читавший произведения Бэкона, все-же предполагает, что он мог быть автором Шекспировских драм, то он очевидно лишен представления о том, что составляет сущность поэзии. Очень поучительны в этом отношении слова Ганса Гэнслера, сказанные им при появлении теории Донелли в его книге «Francis Bacon und seine geschichtliche Steliung». Breslau 1889.
Гэнслер ссылается на Шапфера, чтобы установить факт, что Бэкон с большим жаром проповедовал весьма прозаичные истины и ссылается на Крэка, чтобы показать, что Бэкон был ритором, a не поэтом. Затем он продолжает от себя: «Есть два важных качества, одинаково свойственных и хорошему оратору, и истинному поэту – подъем духа и сила воображения; эти качества отличают ораторское искусство от всей остальной прозы и приближают его к поэзии, причем в других отношениях ораторское искусство составляет отдельную, третью область, стоящую между прозой и поэзией. Этими качествами Бэкон обладал в высочайшей мере, и в особенности его сила воображения ввела в заблуждение многих критиков. Но также как Бэконовский подъем, направленный всегда на отдельную цель, ничего общего не имеет с божественным огнем поэта, так и его силу воображения не следует смешивать с поэтической фантазией. Сила воображения проявляется y него в быстрой смене представлений, в любви к аналогиям, и главным образом, в неистощимом богатстве образов. Все эти три момента формально совпадают с подобными же процессами в душе поэта: в первом пункте, Бэкона можно сравнить столько же с Шекспиром, как и с Ариостом. Но что он все-таки не поэт, видно именно из его образов». Ганс Гэнслер приводит много примеров из произведений Бэкона и приходит к следующему заключению: «само собой разумеется, что y Бэкона встречаются отдельные поэтические образы, но дело не в них, a в том, чтобы решить вопрос был-ли он поэтом по существу. Само собой разумеется, что y и великих поэтов встречаются образы, которые, если их выделить из связи с целым, не представляют ничего обособленно поэтического. Но y Бэкона именно самые оригинальные образы прозаичны по существу. Это образы, рождающиеся в душе политехника, – и это вполне соответствует миросозерцанию писателя, обратившего в прозу то, что есть самого поэтичного на свете – древнюю мифологию. Не поняв этого, критики приняли воодушевление оратора за священный огонь поэта».
Во всей литературе по Бэконовскому вопросу, нет более блестящей характеристики обоих авторов, чем именно в этих словах Гэнслера. Вникнув в их смысл, нельзя уже более поддаться обманам бэконианцев. Следует еще обратить внимание на следующие слова Гэнслера, определяющие психологию Бэкона: «Не понимать, что этот демократ и методический педант, который презирает землю с точки зрения астронома, который хочет изъять из науки все чудесное, и все, что касается высших целей, хочет развеять все чувственные фантазии, который подходит с анатомическим скальпелем ко всем явлениям, и воображению которого ничего не говорили внешние формы природы, – не понимать, что он по существу своему типичный прозаик, значит, не иметь никакого представления о поэзии. Бэконовское механическое понимание природы также далеко от жизненной полноты, заключенной в греческом слове „φνσις“, как искусственные минеральные воды, теоретическим изобретателем которых он был, от священных родников древности».
В эпоху, когда полупомешанные женщины и сумасбродные доктора и адвокаты из за океана довели увлечение Бэконом до пределов, каких никогда не достигал культ Шекспира, особенно важна верная характеристика Бэкона.
Гэнслер следующим образом резюмирует свой взгляд на Бэкона: «Бэкон холоден к природе, холоден к людям, холоден сам по себе. Этот внутренний холод и определяет его душу. Он прозаик не только с объективной точки зрения, не только по своим взглядам, но прозаик до мелкого дна своей души».
Нужно было, чтобы кто-нибудь выступил с протестом против все возрастающего обаяния Бэкона, и Гэнслер сделал это с той резкостью, которая хотя и может показаться святотатственной полу-помешанным бэконианцам, но была необходимо нужна для того, чтоб показать им все безумие их действительно святотатственного вторжения в храм, священный для других.