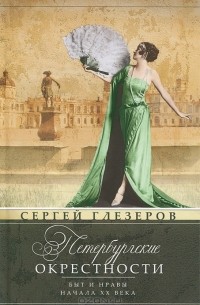Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Приют убогого чухонца»?
Еще сравнительно недавно упоминание об ингерманландских финнах, как и само слово «Ингерманландия», практически не допускалось – и территории с таким названием этого народа как будто бы не существовало. По словам историка Вадима Мусаева, «подавляющее большинство нынешних жителей Петербурга и Ленинградской области даже и не знает, что живет в Ингерманландии, и имеет самое смутное понятие об обитавших здесь ранее финнах».
Поскольку ингерманландцы стали жертвой сталинских репрессий и лишились исторической родины, все, что с ними связано, вычеркивалось из истории. После войны ингерманландским финнам приходилось скрывать национальность – к ним с предубеждением относились как к бывшим врагам, пособникам оккупантов, а само слово «финн» нередко ассоциировалось с понятием «враг».
Считается, что западная граница Ингерманландии проходит по реке Нарове, затем по рекам Луге, Оредежу, Тосне, Мге и Лаве. Северная граница – по реке Сестре, от Ладожского озера до Финского залива. Как отмечает этнограф Наталья Юхнева, на территории Северо-Запада, еще до прихода туда славян, жило «аборигенное финно-язычное православное население»: водь, ижоры, вепсы и карелы. В западноевропейских источниках ижор называли инграми, а место их расселения – Ингерманландией.
В XVII веке, во время шведского владычества, Ингерманландия, пустовавшая после массового исхода жителей, стала заселяться финнами-лютеранами. Именно их сейчас называют финнами-ингерманландцами, а в XIX веке говорили – «петербургские финны». К концу XVII века финны составляли 80% обитателей приневских земель. Даже после основания Петербурга, когда сюда со всех краев России стали переселять русских крестьян, финны-ингерманландцы продолжали составлять значительную часть населения многих районов Петербургской губернии, поначалу она даже называлась Ингерманландской. В числе первых жителей Петербурга имелось немало ингерманландцев, выходцев из этих краев.
По данным земской статистики, по состоянию на 1897 год население Петербургской губернии составляло 690280 человек, из них – 107006 финнов и 13692 – ижорцев. В центральной части Петербургской губернии, состоявшей из пяти уездов – С.-Петербургского, Шлиссельбургского, Царскосельского, Петергофского и частью Ямбургского, – преобладало финское население. Вместе с тем «финский элемент» заметно ослабевал «по мере удаления от южного конца перешейка между Финским заливом и Ладожским озером, так что наиболее западный из этих пяти уездов – Ямбургский – менее всего сохранил у себя финские национальные черты». Три «периферические» уезда, Гдовский, Лужский и Новоладожский, составлявшие, однако, больше половины территории губернии, почти совсем не имели финского населения.
«Таким образом, оказывается, что в трех наибольших по площади уездах, с половиной всего населения, – отмечалось в отчетах земской статистики на 1897 год, – проживает ничтожное количество финнов (1343 чел.), тогда как в остальных пяти уездах, в которых числилось 335050 человек населения, финнов в том числе было 105663, или 31,53%; если к этому прибавить 13 057 ижорцев, проживавших в двух из тех же пяти уездов, то процентное соотношение финского населения ко всему населению губернии в той ее части, где оно вообще встречается, выразится в среднем в 35,43%». Больше всего финского населения регистрировалось в Петергофском, С.-Петербургском, Царскосельском и Шлиссельбургском уездах Петербургской губернии.
В то же время несправедливо считать всех финнов лютеранами, хотя, конечно, в ингерманландской среде господствовало лютеранское вероисповедание. На 1897 год среди финнов Петербургской губернии лютеран числилось в восемь с половиной раз больше, чем православных. Ижорцы же, наоборот, большей частью принадлежали к православной вере: здесь на 10 лютеран приходилось 27 православных.
«Отношения эти очень колеблются по различным уездам, – говорилось в отчете земской статистики за 1897 год, – тогда как в Петергофском уезде, например, на одного православного финна приходится 34,5 лютеранина, в Царскосельском – 24,7, в Шлиссельбургском – 22,0, в Петербургском уезде их уже только 8,7, а в Ямбургском – даже более православных, чем лютеран…» Вероисповедание достаточно отчетливо сказывалось на распространении грамотности: по тем же данным 1897 года 70% финнов-лютеран были грамотными, а среди православных финнов грамотны только 28%.
Петербуржцы беззлобно называли финнов «чухнами», причем в это понятие нередко включались и представители народов финской группы, изначально населявших территории приневских земель, – водь, ижора, вепсы и карелы. «В отношении своего населения наша Северная столица имеет своеобразную физиономию: куда вы здесь ни взгляните, всюду встретите "угрюмого пасынка природы" – чухонца», – писал в конце 1880-х годов известный петербургский журналист-бытописатель Анатолий Бахтиаров.
По его словам, главной особенностью чухонских деревень, в отличие от русских, являлась чрезвычайная разбросанность поселков: «Нередко одна деревня состоит из 5-6 поселков, раскиданных в пространстве 10-15 верст, и так как в каждом поселке насчитывается не более десятка дворов, то невольно является мысль, что чухны склонны жить разобщенно, вразброд. На самом деле в этом факте лежат иные, более глубокие причины. Занимая болотистую страну, чухны по необходимости принуждены были пользоваться всяким мало-мальским значительным пригорком для его заселения… Другая особенность чухонских деревень – это обилие гранита. Нередко ограды кладбищ, стены разных построек выложены булыжником, что свидетельствует, что этот материал обретается в изобилии. Случается, что стены коровьего хлева возведены из гранита, а сверху прикрыты какой-нибудь убогой соломенной крышей».