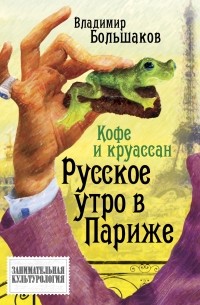Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Вокруг Нантского эдикта
В 1998 году Франция отмечала 400-ю годовщину Нантского эдикта, подписав который, король Генрих IV предоставил свободу вероисповедания и богослужения гугенотам, оставив при этом за католицизмом право главенствующей религии. Так закончились 38 лет (после казни участников Амбуазского заговора 1560 г) кровавых религиозных войн, символом которых навсегда осталась страшная Варфоломеевская ночь 21 августа 1572. Тогда фанатики вырезали во имя чистоты католической веры почти половину гугенотов, по одним данным, 30 тысяч человек, по другим – около 100 тысяч.
Годовщину Нантского эдикта отметили и в ЮНЕСКО. По этому поводу в Париже состоялись торжества, в которых приняли участие руководители Франции, включая президента Жака Ширака, и представители всех религиозных общин страны.
Ширак не преминул отметить, что вся история Франции – это «долгая история того, как мы учились нелегкому искусству жить вместе». Нантский эдикт до сих пор учит этому искусству. Он преподал французам, сказал президент, несколько важных уроков. Первый – Франция сильна, когда она не разъединена. Второй – государство должно уметь брать на себя ответственность. Кроме того, это урок искусства управлять, урок прагматизма и разумной политики, урок терпимости, иначе говоря, основополагающие принципы Французской республики.
Поразмышлять о Нантском эдикте и нам полезно. Россия все же учится демократии, хотя в этих европейских университетах прав и свобод человека ей всегда было неуютно. И не потому, что Россия никогда не могла понять сути этого предмета. Демократия всегда у нас трудно воспринималась, потому что в социальной реальности России она никогда не имела шанса пустить корни в силу своей абсолютной для нашего исторического климата экзотичности. Это все равно, что учить папуаса подледному лову либо обучать эксимоса готовить лягушку в белом вине. Для того, чтобы учение такого рода пошло на пользу, нужно папуаса переселить хотя бы в Подмосковье, а эскимоса – на худой конец в Калифорнию. У нас же, как всегда, торопятся. Демократию не изучают. В нее не вживаются. Ее вводят. Указами. Декретами. Заявлениями типа «Россия теперь – демократическая страна!» И даже редакционными статьями, авторы которых спешат уверить своих работодателей, что с демократией у нас все в ажуре. Между тем дело это долгое. И, как показывает пример Франции, нелегкое, даже далеко не всегда популярное. Демократия не укрепится ни в одной стране только законодательным путем. Она должна стать образом мышления нации. А граждане страны, как точно сказал Ширак, должны научиться жить вместе. Этому же учатся века. История Нантского эдикта – тому подтверждение.
Нантский эдикт при всей своей ограниченности и недолговечности, действительно, был предтечей Всеобщей декларации прав человека, светского характера французского государства и современного экуменизма. Генрих IV, подписывая свой эдикт, конечно, не мог установить равенство вероисповеданий во Франции того времени. Главенствующей религией оставалась католическая. Король мог быть только католиком. И тем не менее это был один из самых важных шагов французского государства к религиозной и политической свободе. В условиях абсолютизма у этого документа, конечно, было больше противников, чем сторонников. Давить «еретиков», иначе говоря инакомыслящих, было чем-то вроде французской национальной охоты. И лишать убежденного правоверного этого права далеко не всегда безопасно даже в наши времена, как показывает история XX века. А уж в ту пору и подавно. И даже просвещенные короли вынуждены были в своих заботах по становлению демократии делать скидку на невежество и нетерпимость своих подданных.
Эммануэль Ле Руа Ладюри, член Французской академии, считает, что французское протестантство, вступив в борьбу с католицизмом где-то в 1550 году, положило начало идеологической борьбе между французами, которая впоследствии воплотилась в противостояние правых и левых. Из лона протестантства, по его мнению, вышло французское Просвещение, идейно подготовившее Великую Французскую революцию, а затем и современное французское левое движение, в то время как консерваторы вышли из католицизма и в нем остались. По-своему правоту академика подтверждает тот факт, что среди лидеров социалистов немало протестантов: экс-премьер-министр Л. Жоспэн, бывший министр обороны П. Жокс, бывший премьер-министр М. Рокар, мэр Страсбурга К. Тротман и др. Да и такие классики французской литературы, как Андре Жид, тоже принадлежали к протестантам.
Борьба за восстановление прав протестантов приобрела весьма острый идеологический характер уже в те времена, когда Нантский эдикт действовал. Ведь этот документ все-таки исходил из превосходства католической веры как «единственно истинной». Протестантам просто предоставили некоторые права, в том числе политические, но не признали за ними права на истину. А ведь если посмотреть в корень, то в основе любой идеологической борьбы и лежит конфликт между правящей истиной и теми, кто эту истину оспаривает. Авторы Нантского эдикта «истинную католическую веру» отождествляли с королевской властью и тем самым, хотели они того или нет, подтверждали, что гугеноты – еретики. Достоинство эдикта в том, что он учил французов в законодательной форме больше не вырезать еретиков за это, а мирно с ними сосуществовать, предоставляя им пребывать в их «заблуждении».
Ересь при абсолютизме, какие бы формы он не принимал, терпят только тогда, когда обладатель абсолютной власти может себе позволить выглядеть просвещенным. Это значит, что его власти ничего не грозит, или он наивно думает, что ей ничего не грозит. Ересь, однако, действует наподобие ржавчины. Она лишает надраенный блеск официальной истины эффекта зеркала. Люди себя в ней уже не узнают, а потому себя с ней не отождествляют. С истиной инакомыслящих постепенно начинают себя ассоциировать все более широкие круги общества, включая правящий класс. И тогда эффект ржавчины срабатывает на разрушение, и столпы общества обрушиваются. Просвещенные короли хорошо это понимали и до поры не давали этому процессу выйти из-под контроля. Ржавчину ереси своевременно счищали и надраивали затронутые ей скрижали власти и официальной истины до нового блеска. Жертвой таких чисток неминуемо стал и сам знаменитый эдикт Генриха IV.
Он был частично отменен в 1629 году уже его сыном Людовиком XIII после попытки протестантов Ла Рошели выйти из-под юрисдикции французской короны, в чем им помогли англичане. И окончательно – в 1685 году Людовиком XIV. После этого гонения на протестантов возобновились. Половина из 30 тысяч парижских гугенотов покинула страну. Только в 1775 г. Людовик XVI частично восстановил их права. Но было уже поздно. Абсолютизм рушился. Просвещение сделало свое дело и подготовило Великую Французскую революцию 1789 года. Не случайно она была стопроцентно антиклерикальной и антикатолической. Сегодня мы восхищаемся пламенеющей готикой Собора Парижской Богоматери (Нотр Дам), не задумываясь над тем, почему же в Париже так немного осталось готических храмов. А эти храмы между тем были исключительно католическими, и уничтожались они в ходе революции по всей Франции тысячами, в том числе подлинные шедевры средневековой архитектуры, не уступавшие Собору Нотр Дам. Да и Нотр Дам пострадал. Революционные мстители отломали головы статуям королей на фасаде собора, не разобравшись в своем антимонархическом порыве в том, что это статуи не французских венценосцев, а библейских королей Иудеи. В ходе революции были запрещены все религиозные католические ордена. Католических монахов и священников выгоняли из монастырей и расправлялись с ними с неимоверной жестокостью. Но вот французские протестанты в 1789 году были уравнены в правах. В 1790 году был принят закон, по которому гугенотам, покинувшим Францию из-за гонений, и их потомкам автоматически предоставлялось французское гражданство, если они возвращались на родину. Закон этот действовал до 1945 года.
Гуманизм Великой Французской революции, утвердившей Декларацию прав человека и гражданина, не был универсальным. Демократия осуществлялась в интересах победившего класса и в ущерб побежденным. Французскому государству предстояло пройти еще долгий путь к национальному согласию и вернуться вновь к Нантскому эдикту, но уже не к форме его, а к его духу терпимости к инакомыслящим.
После 9 термидора казни, которыми известны якобинцы, не прекратились. Термидорианцы, положив под гильотину Робеспеьера и его окружение, даже побили якобинцев по числу отрубленных голов. И когда пришло время остановиться, то, естественно, заговорили о национальном согласии и примирении. Иначе нацию просто истребили бы окончательно. Площадь Революции, где с утра до вечера во славу то одной, то другой идеи из-под топора гильотины падали в заранее заготовленные корзины отрубленные головы, переименовали в площадь Согласия, и это имя она носит до сих пор. Вокруг площади установили статуи, символизирующие основные города Франции. Но Согласие, как и Демократию, указами и парадными статуями не ввести. Нация еще только начинала учиться и тому и другому. Потом была империя Наполеона и была Реставрация, была жестоко подавлена революция 1830 года. Были жертвы революции 1848 года. Демократией и не пахло в период правления Наполеона Ш. А Парижская коммуна, о которой у нас столь розовое представление, почерпнутое из школьных учебников, была совсем не мягкотелой, как нас уверяли. Сгорел Дворец Тюильри. Вновь рушились храмы и монастыри. И классового врага в общем-то не щадили. А те, кто Коммуну подавлял, оказались просто зверьми, о чем французам в школьных учебниках, кстати, тоже сообщают весьма скупо. Париж был залит кровью так, что даже Варфоломеевская ночь поблекла в сравнении с расправой Тьера над коммунарами.
Демократия началась тогда, когда во Французской республике перестала существовать монополия на истину, когда появилась реальная возможность не просто безнаказанно, а законным образом публично противопоставлять альтернативную, оппозиционную истину правящей в ходе демократических выборов. Новейшая история Франции подтверждает, что это был нелегкий процесс. В университетах демократии не все оказалось просто. Была война. Был, по сути, профашистский режим Виши, который тоже именовал себя Французской республикой и принимал законы от ее имени. Идеологическая борьба вновь переросла в гражданскую войну. И в том была историческая необходимость, иначе фашизм установил бы свою чудовищную «истину» на века. Однако даже после победы над фашизмом полного гражданского мира не было. Не отказывая в демократии своим гражданам, Франция еще долго и после войны категорически была против того, чтобы теми же правами пользовались жители ее колоний. И раны французских колониальных карательных походов и войн в Алжире, на Мадагаскаре еще долго будут кровоточить, как показали восстания цветной молодежи в парижских гетто осенью 2005 г.
«Утро у ворот Лувра» кисти Эдуара Деба-Понсан. Коллекция Музея Роже-Кийо
Даже в наши дни знаменитые статуи на парижской Площади Согласия отражают реальность лишь частично, но далеко не полностью ей соответствуют. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно проехать по иммигрантским кварталам вблизи Парижа и в самой французской столице, просто посчитать однажды, сколько вы за день встретили нищих и бездомных с протянутой рукой в метро и практически у каждого третьего парижского светофора. И все же несмотря на все это дух Нантского эдикта жив. Правящий класс никогда не признает за истину «ересь» социалистов и коммунистов, но он допускает сосуществование президента-голлиста Жака Ширака, в чьей правоверности этот класс не сомневается, с левым правительством социалиста Л. Жоспэна, в который входят и коммунисты. Французы научились жить вместе политически в силу резкого полевения общества. Социальное неравенство они искореняют не только налогами, с помощью которых у богатых людей отбирают до 50 процентов дохода. Его искореняют в умах – в школах, в университетах. И вот уже в богатых семьях дети начинают бунтовать против «буржуазности» своих родителей, даже если эта буржуазность выражается всего лишь в том, что мама и папа модно, хотя и совсем не шикарно, одеваются, если они покупают «буржуазный», т. е. не малолитражный и не дай бог не французский, автомобиль и т. д. Детское стремление к справедливости пересекает границы классов, и это подспудно создает массовую базу для будущих социальных конфликтов, которые неизбежны, если умение жить вместе будет ограничено в обществе только политической терпимостью в духе Нантского эдикта. Государство должно брать на себя ответственность – тут прав Ширак – не только за порядок на улицах и на границах, но и за защищенность своих граждан от безработицы, нищеты и лишений. Это уже высший курс демократии. К нему западное общество постепенно приближается и, видимо, придет, хотя и не совсем тем путем, который рекомендуют коммунисты и даже социалисты. Перед тем как установить социальное равенство, общество неминуемо должно пройти через такие качественные перемены, о которых сейчас даже говорить не стоит, ибо можно быть абсолютно неправильно понятым. Единственно, что ясно сейчас, обществу придется полностью изменить концепцию занятости (к этому уже идут французские социалисты, которые ввели 35-часовую рабочую неделю), а значит, и концепцию образования, которое к тому же пока доступно не всем в равной мере.
Дух Нантского эдикта предполагает терпимость к инакомыслию во всем. Франция в этом ушла в сравнении с Россией, да и с другими странами тоже, далеко вперед. Однако идеализировать французов и здесь не надо. Терпимость в полной мере свойственна пока только высококультурному слою. Да и то не всем его представителям, если судить по иным книгам, появляющимся на французском книжном рынке. Что же касается основной массы… Я никогда не забуду одной сцены, которую наблюдал на Елисейских полях 14 июля 1989 года в тот день, когда по этой улице двигалась праздничная полукарнавальная колонна исторических персонажей времен Великой Французской революции. Так отмечалось ее 200-летие. Тысячи людей собрались посмотреть на это грандиозное шоу. Многие пришли за несколько часов до начала. Остальные подходили потихоньку и по принятой у парижан привычке усаживались прямо на тротуаре не мешающими друг другу рядами. Один старичок принес с собой раскладной стульчик и поставил его на самом краю тротуара, сев ближе к асфальтовой арене. Он явно всем заслонял картину. Поначалу ему вежливо сообщили из задних рядов, что помимо него в партере немало зрителей. Потом начали улюлюкать. А затем кто-то заорал: «На эшафот его!» Предложение поддержали еще несколько человек. Старичок как-то сразу сгорбился, и, собрав свой стульчик, перешел в другое место.
Когда Горбачев принялся вводить свою «открытость» и «гласность», выдавая это за «развитие демократии при социализме», один едкий французский публицист не преминул пожелать ему использовать пример короля Франции Людовика XIV-го, который еще в XVII веке открыл дворец в Версале для посещения публики (для этого надо было только быть одетым в приличное для королевского двора платье, что было несложно, т. к. рядом с дворцом существовали специальные для этих целей ателье проката), включая посещение парадных апартаментов короля. Горбачеву посоветовали открыть для публики для начала его апартаменты в Кремле и в здании ЦК КПСС на Старой площади.