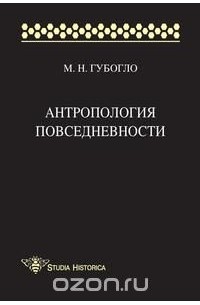Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Раздел V. Домашний очаг и дороги: партнеры или антиподы поствоенной идентификации
1. Романтика дорог и проза домашнего очага
Весомый вклад в психологическое облегчение тяжелых условий постсоветской повседневности вносила школьная система образования и воспитания. Дом служил хотя слабым, но все же прибежищем стабильности, школа – локомотивом подвижности. Она звала во внешний мир.
Осознание всемирной значимости победы в Великой Отечественной войне, взрывная магия книгомании и киномании вместе с гордостью за свою страну, подпитывали мечту о красивой жизни, способствовали преодолению вековой деревенской отчужденности. Мечты звали к дальним мирам, открывали сельским юношам и девушкам перспективу и заманчивую притягательность городской жизни с ее безграничными, как казалось, возможностями, соблазнами и интересами. «Позови меня в даль светлую», так назвал свою киноповесть Василий Шукшин, видимо, вспоминая свои школьные годы в далекой Алтайской деревне.
Поствоенная молодежь, опьяненная победой над фашизмом, искала героев, дальних путей-дорог, а школьные программы не всегда знали, куда, как и каких героев пристроить. Виртуальные странствия, дальние дороги, величественность целей и миражей служили для поствоенной молодежи привлекательными ориентирами и стимулами к деятельности.
Красноречиво скажет о дорогах, вспоминая юность, повзрослевший каргапольский поэт Анатолий Предеин. Трудно не поверить его пронзительному признанию, стремлению попасть «в жизнь иную», дальнюю.
Выдающуюся роль в раскрепощении умов сначала творческой интеллигенции, а затем и более широких кругов народных масс сыграла система школьного образования и особенно до сих пор не оцененная по достоинству подсистема ее воспитательной работы.
Школьные годы писателей-«деревенщиков» – Ф. Абрамова (р. 1920 г.) пришлись на начало 1930-х годов, В. Астафьева (1924 г.), В. М. Шукшина (1929 г.). В. И. Белова (1932 г.), Е. А. Евтушенко (1933 г.) – на 1930-е гг., В. Г. Распутина (1937) на рубеж 1940–1950-х годов. В творчестве этих писателей нашли отражение не только традиции классического русского реализма, но их произведения стали основой для продолжения этой традиции сегодня в произведениях Владислава Отрошенко, Олега Павлова, Василия Голованова, Светланы Василенко, Василия Кислякова, Лидии Павловой [Чагин 2007: 41].
Школьные годы были временем подростковой и юношеской влюбленности. Кумирами послевоенных поколений чаще всего становились артисты советского кино и герои отечественной истории. Еще не наступила эпоха всепроникающего телевидения. В селах Зауралья, Сибири, Дальнего Востока не было театров, концертных залов, филармоний. Были избы-читальни с комнатой для шахмат и шашек и маленьким кинозалом. Не удивительно, что мотивации к знанию, к любви, к любознательности удовлетворялись книгами и кинофильмами. Книгомания и киномания были важной составной частью обыденной жизни, социокультурной потребностью тех, кому в 1950–1960-е годы довелось быть в подростковом и юношеском возрасте. В отличие от городской молодежи, выбор культурных благ в сельской местности был крайне ограниченным. Но жажда приобщения к культуре, мудро внедряемая не столько учебными программами, сколько стратегией и практиками воспитательной работы, была чрезвычайно велика, порой ненасытна. Один и тот же фильм в сельском кинотеатре или в районном центре шел целую неделю. И надо было ухитряться, всеми силами выпрашивать у родителей лишние 20 копеек, чтобы просмотреть один и тот же фильм по нескольку раз. Велико было искушение каждый раз, особенно при повторных демонстрациях фильма, попасть на сеанс зайцем, незаметно прошмыгнуть мимо порой не очень строгой контролерши.
В Каргапольской средней школе под руководством ее директора (времени моих школьных лет) – мудрой и талантливой Ульяны Илларионовны Постоваловой – был создан дружный коллектив учителей, преданных своему делу и своей профессии [Постовалова 1995]. Вплоть до конца 1950-х гг. школа настраивала своих питомцев не только на сельскохозяйственное производство, но и завораживающе влекла в городскую сферу культуры, науки, общественной деятельности. В этой необычной для сельской местности стратегии воспитательной работы коллективу школьных учителей и их методическим приемам помогали, в частности, фигуры выдающихся деятелей отечественной культуры и науки, воплощенные на экране неподражаемым Николаем Черкасовым, в том числе в роли М. Горького в фильме «Ленин в 1918 году», академика Ивана Павлова в одноименном фильме, Александра Попова в фильме «Александр Попов», Стасова в фильме «Мусоргский».
Любому сельскому школьнику казалось утопией учиться в МГУ, стать писателем, капитаном дальнего плавания, первооткрывателем неизвестного племени в тропической Африке или в горах Южной Америки. Однако утопия, взращенная могучей литературой и завораживающим кинематографом, была креативна. Она увлекала за собой и призывала не избегать попыток. Проблема приобщения к утопии была составной частью повседневной жизни, увы, весьма далекой от утопии. Тем не менее история, в отличие от литературы, показывала, что совокупно опыт формирования гражданского самосознания как уважительного отношения к своей стране, к своему Отечеству рождался у сельских школьников на лоне родной природы, в кругу соотечественников в атмосфере товарищества и духовности.
Не зря сказал мудрец: «Народы рождаются в деревнях, а умирают в городах».
Следуя логике семиотических исследований Ю. М. Лотмана и Н. Н. Зарубиной, Дом, как домашний очаг, наделяется смыслом не только безопасности, защищенности и даже культуры и проявляет функции концепта-антипода страха, хаоса и варварства, в то время как оппозиция Дому (домашнему очагу) выражается Дорогой (странствием) как метафорой духовных исканий и духовного возрождения, противопоставляемого рутине повседневного быта [Лотман 1992: 457; Зарубина 2011:53–54].
У Н. В. Гоголя метафора Дороги логично сливается с образом России, мчащейся подобно необгонимой тройке.
Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства [Гоголь 1994,5:225–226].
Каргапольская средняя школа, как видно из опыта и стратегии ее воспитательной работы, вдохновенно осуществляемой коллективом талантливых учителей, в 1950-е годы играла роль посредника, перекидывая мост между малоподвижным повседневным бытом, генерируемым домашним очагом, и динамичным внешним миром. Школа настраивала своих питомцев на дорогу в широком и узком смысле, на странствия, на горизонтальную мобильность и вертикальную карьеру [Постовалова 1995].
Следуя классическим традициям русской литературы, Курганский поэт Геннадий Артамонов представил школьный порог в образе «дальней дороги» как послешкольной жизни.
Сегодня, оглядываясь в череду дней прошлой повседневной жизни послевоенного периода нельзя не видеть, что культуртрегерская роль школы накануне и в годы хрущевской оттепели звала в дорогу, но задавала своим питомцам разные ориентиры. Одним – судьбу лесковского Флягина, который отправляется в дорогу жизни, чтобы, следуя вызовам взросления и социализации, окрепнуть душой и гражданской направленностью, другим – подобно Онегину, напротив, бежать от себя из неподвижной повседневности. Но всех объединяло предчувствие дороги, как жизненного пути, трансформации души, познание величия и мощи своей родины, обретения гармонии со страной и самим собой.
Романтика дорог с упоением усваивалась во время вечеров встреч с выпускниками школы, поступившими в университеты и институты страны. Этот день школьники старших классов ждали с нетерпением и с упоением слушали рассказы своих земляков о повседневной жизни студентов и горожан.
За вылет из родного сельского гнезда агитировала доска, как путеводная звезда: «Они учились в нашей школе», с фотографиями студентов, академиков, героев Советского Союза, крупных общественных деятелей, окончивших Каргапольскую среднюю школу.
На фотографиях, сделанных через 55 лет, показаны 3 школьных здания: начальная школа в с. Тамакулье, где я учился в 3–4 классах, полуразрушенная восьмилетняя школа, в которой обучение велось в 5–7 классах, и, наконец, белокаменная средняя школа в Каргаполье, в которой учились учащиеся 9–10 классов.
Начальная школа в с. Тамакулье, которую М. Н. Губогло закончил в 1950 г Фото М. Н. Губогло, 2012 г
Восьмилетняя школа в с. Каргаполье Фото М. Н. Губогло, 2012 г
Десятилетка в с. Каргаполье. М. Н. Губогло закончил ее в 1957 г Фото М. Н. Губогло, 2012 г
Состояние этих школ вполне убедительно репрезентирует дела нынешней образовательной системы, отказавшейся не только от комфортабельных, окруженных теплой акацией школьных зданий, но и воспитания учеников в духе любви к своей малой родине и своему Отечеству.
Повседневность в известном смысле – та же дорога, но в значительной мере – дорога по замкнутому кругу. В то время как дорога-судьба, дорога-движение – это мобильность человека, народа, страны, движение вперед.
Дорога, как и любовь, есть концентрированное проявление и неотъемлемый атрибут жизни. Именно поэтому дорога чаще, чем рутинная повседневность, выступает в жизни и в русской литературе или символом, или даже синонимом жизни.
Представляя перевод на русский язык учебник по «Социологии», один из патриархов американской социологии XX в. Нейл Смелзер, автор выдающихся работ в области экономической социологии, теории коллективного поведения, теории социальных изменений и методологии сравнительных исследований, предостерегал русскоязычных читателей от искушения антипримордиалистского понимания этнической истории и ее проявлений в ряде сфер и ситуаций повседневной жизни.
Западная социология от Ф. Тенниса до наших дней, – по мысли Нейла Смелзера, – была введена в заблуждение представлением о том, будто рост сложных, рациональных, целенаправленных организаций означает общее ослабление примордиальных сил (подчеркнуто мной. – М. Г.). Более того, много раз в своей истории Советский Союз пытался подавить семью, религию и прежде всего этническую общность (снова подчеркнуто мной. – М. Г.). В конечном счете эта попытка потерпела неудачу. Стремление к национальной независимости было в сущности одним из главных факторов, приведших к окончательному крушению советского коммунизма. В настоящее время эти исконные силы – одним словом, силы Геманшафт (общины, в отличие от общества по Ф. Теннису. – По уточнению Нейла Смелзера), видимо, снова заявляют о себе в региональном, этническом и лингвистическом сознании, в социальных движениях и в политической борьбе во всем мире [Смелзер 1994: 13].
В относительно кратком, но емком предисловии к русскому изданию «Социологии» маститый профессор обращается не только к студентам и аспирантам, но и к более широкому кругу читателей, в том числе к коллегам по профессии, а также к предпринимателям и руководителям научных и иных коллективов с просьбой-наказом не самоустраняться от «примордиальных сил» и продолжать изучение феномена «неукротимости примордиальности» в обществе» с тем, чтобы «социологи переосмыслили прежние теории социальных перемен и обратили на примордиальные структуры достойное внимание, какового они всегда заслуживали, но которое не всегда им уделялось» [Там же].