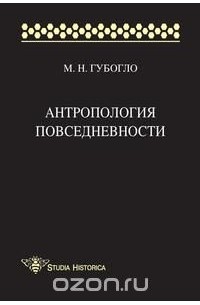Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4. Послевоенные альбомы в культуре сельской молодежи
Важную роль в оздоровлении российского общества первой четверти XIX в. играло не только создание и тиражирование художественных произведений, но и формирование читательских навыков, в том числе такое своеобразное историко-культурное, окололитературное явление, как создание семейных и личных альбомов. И хотя «альбомную культуру» не принято рассматривать как проявление вестернизации, в одном типологическом ряду с выдающимися достижениями золотого века в истории русского искусства первой половины XIX в. в сфере литературы, архитектуры, живописи, скульптуры и музыки, с этнологической точки зрения рукописные альбомы, как письменный фольклор, представляют неотъемлемую часть повседневных практик, важный аспект соционормативной культуры дворянской повседневной жизни. Более сотни рукописных альбомов, хранящихся в фондах Государственного музея А. С. Пушкина, представляют собой ценнейшее достояние русской культуры и обыденности дворянского класса пушкинского времени. Достаточно назвать имена автографов и авторов акварельных рисунков. В числе первых – Н. В. Гоголь, Н. М. Языков, П. А. Плетнев, Н. И. Надеждин, В. И. Панаев, в ряду вторых – О. Кипренский, автор портрета А. С. Пушкина, А. Брюллов, тот самый, чья картина «Последний день Помпеи» стала для русской кисти «первым днем», и другие известные художники и деятели культуры [Михайлова 2008: 1]. Рост патриотизма после 1812 г., национального самосознания и укрепление гражданской позиции в некоторых социальных слоях российского общества проистекал не только от победы над Наполеоном, но и, несомненно, был связан с гигантским взлетом художественной культуры. Он нашел отражение в творчестве родоначальников различных отраслей литературы, в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, в гражданском подвиге декабристов, а также в становлении традиции «уездных барышень альбомов».
Время нашей истории в поствоенный период 1940–1950-х гг., в том числе краткая пора, получившая название «оттепели», видимо с легкой руки И. Г. Эренбурга, разумеется, не ограничивается сроком пребывания Н. С. Хрущева на посту Первого секретаря ЦК КПСС и отстранения его от этой должности. Оно началось до Хрущева и продолжалось какое-то время после него. Богатейший опыт деревенской и военной прозы, безусловно, имеет связи с нравственным раскрепощением национального духа граждан Советского Союза. И хотя современные поэты Е. Евтушенко и А. Дементьев не без оснований могли сказать, что они вместе с Робертом Рождественским и другими поэтами, вступившими на стезю творчества в 1950-е гг., «надышали оттепель», вклад деревенской прозы был не менее значителен и не менее значим в просветлении умов советских людей.
Напрашивается сравнение. В тесной связи с оздоровляющейся общественной атмосферой и вершинными достижениями русской художественной литературы двух послевоенных эпох в начале XIX и в середине XX вв. находится и развитие традиции литературных рукописных альбомов. Разница в развитии «альбомной культуры» в двух разных эпохах состояла в том, что в первом случае она была уделом дворянских элитных кругов, тогда как во втором случае, на рубеже 1940–1950-х гг., она «спустилась» в толщи народных масс, сосредоточившись преимущественно в подростково-молодежных кругах.
К сожалению, тексты в этих альбомах, как великолепные образцы устного прозаического и поэтического творчества, до сих пор не попали в должной мере в предметное поле этнографических исследований. Между тем в альбомной культуре первой половины XIX в. и второй половины XX в. обнаруживаются интереснейшие черты сходства и различий. Так, например, в каждом случае при оформлении каких-либо «секретных» или «полусекретных» посланий юноши и девушки прибегали к «языку символов» или «языку цветов». Мне уже приходилось рассказывать о том, что белые цветы, подаренные девушке или нарисованные в ее альбоме, означали предложение «давайте дружить», красные розы – «я вас люблю», желтые лютики – «я вас больше не люблю», хотя это и не означало выхода из системы альбомной культуры.
В дворянской альбомной культуре пушкинских времен рисунок, изображающий крест, якорь или сердце, означал соответственно «Веру», «Надежду», «Любовь». Цветок незабудки, вложенный альбом или поднесенный вживую, означал просьбу «помни обо мне», рисунок розы расшифровался как: «Вы прекрасны, как этот цветок» [Петина 1985].
Обращение к своим воспоминаниям о «взлете» альбомной культуры на рубеже 1940–1950-х гг. среди сельских школьников вызвано тем, что, во-первых, соотношение письменного фольклора и повседневной жизни послевоенного периода не стало предметом этнографического исследования, во-вторых, отставанием этнологии от литературоведческих исследований, в которых проблемы взаимодействие быта и литературы породило интересную литературоведческую традицию, заложенную в трудах Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и продолженную в исследованиях В. Э. Вацуро, Л. И. Вольперт, Л. И. Петиной и ряда других авторов.
Однако, в отличие от трудов, посвященных преимущественно структурному и технологическому анализу альбомной культуры пушкинской эпохи, сегодня вызывает интерес совпадение двух периодов российской истории, завершившихся победой русского оружия в отечественных войнах и наступившими потеплениями, получившими название «александровской весны» и «хрущевской оттепели». Иными словами, внимание сосредоточено не столько на альбомах, хотя и на них тоже, сколько на «времени славы и восторга», наступившем после побед над Наполеоном и Гитлером. По свидетельству Анны Чекановой, традиция рукописных альбомов пришла в Россию в середине XVIII в. из Западной Европы и живет уже более двух столетий, не теряя своей популярности и притягательности [Чеканова 2001].
На заре становления «альбомной культуры», в конце XVIII в., составлением альбомов занимались мужчины – хозяева усадеб и поместий, но уже в первой четверти XIX в. «уездной барышни альбомы» стали важным элементом семейного быта, уделом юных барышень.
Так, например, активной читательницей была Татьяна – литературная героиня пушкинского «Евгения Онегина».
Ее родительница «была сама от Ричардсона без ума», но вдобавок:
Однако чтение и альбомоведение осталось в молодости, когда родительницу выдали замуж, а муж привез ее в деревню.
Сегодня мои неоднократные попытки разыскать альбомы среди оставшихся в живых одноклассников, юношей и девушек 1940–1950-х гг., к сожалению, не увенчались особым успехом. Многие мои сверстницы стыдливо признавались, что уничтожили свои альбомы вместе с содержащимися в них «секретами» и признаниями в ранней влюбленности, чтобы не вызвать ревности и лишних вопросов у женихов и мужей. Что касается сверстников, то они по истечении полвека со времени «альбомного» запоя, стыдились о нем вспоминать. Можно полагать, что погибла значительная часть этих источников, содержащая важнейшую информацию об умонастроениях и перипетиях социализации целого поколения.
В школьные времена, в те дивные сказочные годы среди учеников и выпускников Каргапольской средней школы было заведено иметь альбомы подобно салонным традициям русской художественной элиты начала XIX в. Такая вот была мода среди деревенских детей в селениях, прилепившихся к берегам сибирских рек – Миасса, Исети, Течи, Тобола, а может быть, и других рек и речушек Западной Сибири.
В эти «Альбомы» подростки заносили полюбившиеся стихи из классической поэзии, местные, порой сильно наперченные народные частушки, самодеятельные рифмы, тексты отправленных и неотправленных посланий друзьям и подругам. В них подростки, юноши рисовали танки, пушки, самолеты, девушки – розы, ромашки, полевые колокольчики, березовые колки, маслят в молодом сосняке. Излюбленными «пейзажными» рисунками были доты на крутых обрывах Тамакульских оврагов, и особенно часто – знаменитый Каргапольский деревянный ажурный мост, построенный, по преданию, белогвардейцами.
В послании к своему самому близкому другу И. И. Пущину преданный ему А. С. Пушкин писал:
Речь идет о смелом и мужественном поступке И. И. Пущина, когда он, вопреки официальному запрету, приехал к опальному поэту в Михайловское в январе 1825 г до восстания декабристов. В ответ Пушкин отправил вышеприведенное стихотворение с женой декабриста Н. М. Муравьева, поехавшей к нему на каторгу в Сибирь.
Подражая великой дружбе гениального поэта с мужественным декабристом И. И. Пущиным ученики Каргапольской средней школы переписывали из своего альбома в альбом ближайшего друга четверостишие, написанное А. С. Пушкиным на больничной дощечке над кроватью, когда И. И. Пущин лежал в лицейском лазарете.
В этих же альбомах поствоенные подростки коллекционировали свои и полученные от друзей и подруг красочные открытки на лакированной бумаге с изображением популярных в те времена артистов и артисток кино – Марины Ладыниной, Любови Орловой, Валентины Серовой и многих других. На некоторых открытках красовались цветы, классические натюрморты, сердечки, разного рода птички, голубки, окаймленные дурашливыми записями, типа: «Лети с приветом, вернись с ответом» и т. п. Иногда уголки отдельных страниц альбома загибали и на отогнутой стороне делали такую надпись: «Секрет: входа нет!».
Тем не менее накануне таких великих в 1950-е гг. праздников, как 1-е и 9-е мая как дни «всенародных выборов», когда все голосовали за блок «партийных и беспартийных», а также в связи с наступающим своим днем рождения, владельцы альбомов доверяли «по секрету» их своим самым близким друзьям, надеясь получить письменный подарок виде дружеского сочинения, классического стихотворения или цитаты из изречений мудрецов. Получилось почти так, как в пушкинские времена, например, как слова, вписанные щедрым на надписи поэтом в альбом Елизавете Ушаковой, младшей сестры Екатерины Ушаковой.
Совершенно очевидно, что взаимные послания ко дню рождения, которыми обменивались в альбомах сельские дети в середине XX в., очень сильно напоминали традиции первой половины XIX в.
В день именин Екатерины Бакуниной А. С. Пушкин записал ей в альбом:
В альбоме драматической актрисы Е. Я. Сосницкой навеки остался пушкинский экспромт:
С детских лет помнятся экспромты М. Ю. Лермонтова, оставленные в альбомах – Э. К. Мусиной-Пушкиной:
В альбом сестрам Дарье и Наталье Ивановой:
В альбом сестрам Н. Ф. Ивановой:
Стоило мне в Яндексе набрать три слова знаменитой фразы из романа «Евгений Онегин»: «уездной барышни альбом», как выплыло более 12 тысяч сайтов с интригующей информацией о прошлом и настоящем альбомной культуры, ее инкорпорированности в ткань нынешней повседневной жизни, о мире и о чувствах современной молодежи.
Феномен альбомной традиции, как это видно даже из пестрой и неравноценной по качеству интернетовской информации, состоит в том, что она (традиция) представляет собой целый пласт русской культуры XVIII–XX вв., носителями которой в различные периоды истории были разные социальные слои населения. Сначала в конце XVIII в. в Екатерининские времена сама императрица и ее фрейлины, позднее – великосветские дамы и барышни далеких деревень и провинциальных городов заводили альбомы в роскошных кожаных переплетах с золотым тиснением. Затем по мере распространения грамотности среди населения, альбомная культура смещалась на более нижние этажи социальной лестницы из княжеских и графских дворцов в купеческие хоромы и мещанские избы. На это «вертикальное передвижение» ушло почти столетие. В середине XX в. альбомная культура стала достоянием сельской молодежи, активно изучающей русскую литературу и культуру по школьной программе.
Излюбленными темами альбомов в дворянских кругах в начале XIX в., наряду с талантливыми экспромтами классиков русской поэзии, например А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, были самодельные стихи друзей и подруг владельцев альбомов. Это были родительские наставления и дружеские пожелания счастья и удачи, клятвы верности и преданности, восхищение красотой и умом владельца альбома, воспоминания о детстве – как лучшей поре человеческой жизни.
Вряд ли мать поэта Мария Михайловна Лермонтова, даже будь она Жюль Верном или Алексеем Толстым, могла бы в своих фантазиях предположить, что ее душевные стихи в собственном альбоме будут помещены на нескольких сайтах Интернета, и на заре XXI в. с ними сможет познакомиться любой подросток, побуждаемый вызовами взрослеющего самосознания и формирования идентичности человека нового тысячелетия.
Между тем сообщение Тамары Мельниковой, исполненное в духе пленительных рассказов Ираклия Андронникова о том, как случайно был найден и передан в Пензенский музей альбом, условно названный «Уездной барышни альбом», представляет значительный интерес не только для взрослых любителей старины и специалистов в области русской культуры.
Особый интерес представляет, в частности, опыт учителя русского языка и литературы из Омска Инны Николаевны Макаровой по созданию и реализации проекта «Летучие листки альбома уездных барышень и кавалеров», в одном из вариантов которого приняли участие более 40 учащихся.
Цель издания электронного эквивалента альбома, из которого были извлечены вышеприведенные примеры, состояла в том, чтобы повторить образцы альбомов, популярных во времена А. С. Пушкина, с тем, чтобы не только «оживить» те времена, но и «стать на время человеком другого века, почувствовать себя частью истории».
Тематика альбомных текстов молодежи школьного возраста послевоенного периода накануне и в первые годы хрущевской оттепели сильно изменилась по сравнению с содержанием альбомов дворянской и купеческой поры. Наряду с традиционными сюжетами о любви и дружбе, о преданности и верности, в альбомах появились тексты, наполненные гордостью за свою страну, за великую победу, с панегириками в честь прославленных героев истории и героев Великой Отечественной войны.
Приближалась пора формирования той самой гражданской идентичности, которая ворвалась в предметную область этнологических исследований на рубеже XX–XXI вв. И будет крайне досадно, если подготовка и празднование великого юбилея 70-летия победы СССР в Великой Отечественной войне не станет мощным катализатором укрепления каждого гражданина России в чувстве принадлежности к российской нации. Именно она, российская нация, именуемая в 1940-е гг. советским народом, содружеством народов, внесла решающий вклад в дело разгрома фашистской Германии.
Анализ тематики стихов более сорока омских учащихся – создателей электронной версии «Летучие листки альбома уездных барышень и кавалеров» показывает, что чаще всего стихи, пожелания и послания адресуются или посвящаются другу или подруге, восхвалению родной земли, своей малой родины, в частности городу Омску, России и ее славной, но противоречивой истории, родной природе, своим увлечениям, душе и душевным порывам. Немало признаний в любви к родной школе и любимым учителям. Сегодняшние подростковые альбомы – это отзвуки того романтического времени, которое состоялось и больше не вернется. В узком смысле – это увлекательные затеей мыслей, настроений и чувств, прописанных в ту или иную, сельскую или городскую среду. В широком смысле эти «затеей» – своеобразные отклики взрослеющей души на вызовы времени.
Школьница Юлия Елисеева, как вполне взрослый человек, помещает в электронной версии альбома серьезные стихи:
Еще одна юная омчанка в этом же омском альбоме озабочена отсутствием гражданского патриотизма. Она, в частности, пишет:
И призывает, как клятву, как заклинание:
Традиции письменного душеизлияния порой приглушались, видимо, но не прекращались на протяжении двух веков. Не случайно у нынешних исследователей творчества А. С. Пушкина, в том числе в сфере «альбомной культуры», возникает в памяти описание альбома Евгения Онегина:
Как сообщала И. В. Андреева, изучающая феномен «девичьих альбомов», она их обнаружила в трех библиотеках г. Челябинска. Так, например, в одном из факсимильно опубликованных в Интернете альбомов Веры Смолиной, звучало обращение хозяйки альбома:
На рубеже XX–XXI вв. альбомная культура стала не только выражением душевных волнений молодежи, отражением и выражением внутреннего мира девушек, но и свидетельством гражданского взросления молодежи, ее способности трезво судить о добре и зле, о смысле жизни, о славных победах и горечи поражений, о позитивных и негативных последствиях происходивших изменений.
Трудно лучше сказать о современной альбомной традиции, чем это получилось у ученицы 11-го класса омской школы 76 Лагутиной Натальи:
Анализируя содержание, смыслы, комплиментарный и развлекательный характер «уездных барышень альбомов», исследователи альбомной культуры еще в первой половине XIX в. давали им следующую характеристику: «Все альбомы написаны лестно». В известных мне альбомах сельских школьников Каргапольского района в середине XX в. исключена была какая-либо критика в адрес своего или прошлого времени, в адрес государства, руководителей партии и правительства.
Между тем в альбоме, помещенном во всемирной паутине, читаем стихотворение Юлии Питч:
Обличительное стихотворение Ольги Торбиной:
Вступление в новое тысячелетие эта девушка, рано задумавшаяся о судьбе и смысле жизни, встречает с энтузиазмом и оптимизмом:
Привнесение альбомной культуры в недра Интернета означает, что магнитное поле альбома продолжает притягивать к себе романтически настроенную часть современной молодежи и позволяет ей обретать историческое чутье вместе с обретением гражданской идентичности и национального достоинства.
Итак, воспоминания о рубеже 1940–1950-х гг., т. е. о «времени славы и восторга», позволяют более критично характеризовать этот период нашей истории. Общий вывод напрашивается в связи с тем, что, восстанавливая свои духовные силы, советский народ опирался на мощную корневую систему русской культуры, подпитывающую развитие послевоенного искусства. Страна была «обречена» вступить в оттепель, независимо от того, как она называлась: фамилией генерального секретаря компартии или руководителя Советского правительства.
Два вектора повседневной истории – соционормативная и профессиональная культура – способствовали просветлению умов, что с особой наглядностью проявлялось на примере послевоенной молодежи, в том числе в ее увлечениях чтением, посещением кино, жаждой красоты, стремлением к эстетическому самообразованию, в том числе с помощью «альбомной культуры», имеющей не менее двухсотлетний стаж. Она развивалась в Советском Союзе едва ли не автономно от идеологического воздействия, которое уже подавало первые признаки сбоя, что отразилось на равнодушии населения к радиопередачам.
Разумеется, периоды и понятия «александровской весны», «хрущевской оттепели», равно как и предтечи каждой из них, нуждаются в дополнительных исследованиях, особенно в связи с актуальной на заре нового тысячелетия проблематикой этнической и гражданской идентичности и динамическими трансформациями в повседневной жизни и в ментальности граждан постсоветского пространства.
Оба периода, характеризуемые переходом от тоталитаризма и монолитного единства с загнанными глубоко внутрь социальными противоречиями, сыграли важную роль в движении Российского государства и его народов первом случае – к отмене крепостного права в середине XIX в., во втором случае – к готовности построения институтов гражданского общества на рубеже XX–XXI вв., к оптимальному и солидарному этническому и демократическому многоцветию.