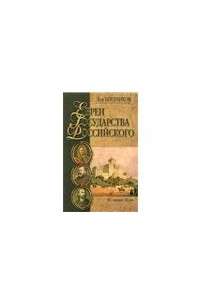Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Казус Липмана. Леви Липман
1550–1750-е годы в Европе называют периодом абсолютизма и меркантилизма. Именно в это время на историческую авансцену выходят придворные евреи, без коих не обходится ни один европейский венценосец. Они занимали высокие посты и рядились в пышное платье, словно опровергая слова из известной песни Александра Галича: «Ах, не шейте вы, евреи, ливреи!» Обладая аналитическим умом и предприимчивостью, «еврей в ливрее» обычно служил своему государю как финансовый агент, поставщик драгоценностей и ювелирных изделий, главный квартирмейстер армии; он начальствовал над монетным двором, создавал источники дохода, заключал договоры о займах, изобретал новые налоги и т. д.
Почему на сем поприще подвизались именно евреи? Дело в том, что в Средние века для иудеев наличествовал запрет на многие профессии, и они искусились в разрешенных им коммерции и бизнесе – делах, которые христиане традиционно считали презренными и заниматься коими не хотели, да и не умели. Потому, когда предпринимательская сметка и оборотистость оказались особо востребованными, евреи и заполнили образовавшуюся лакуну. И служили они королю, герцогу, курфюрсту верой и правдой, проявляя и завидную инициативу и исполнительность. При этом низкий правовой и социальный статус иудея (как представителя национального меньшинства, дискриминируемого по религиозному признаку) тоже пришелся к монаршему двору, ибо делал еврея фигурой более зависимой и управляемой, нежели христианина.
Самуэль Оппенгеймер
Карьера многих придворных евреев в Европе складывалась весьма успешно. Так, в Вене строительством оборонных укреплений руководил Самуэль Оппенгеймер (1630–1703), который утверждал, что каждый год «готовит для монарха две армии». Его коллега, богатейший еврей Германии Самсон Вертхеймер (1628–1724) (его даже называли «еврейским императором»), с честью служил трем правителям габсбургской династии, выполняя важные дипломатические поручения; в его дворцах висели портреты королей и герцогов, пользовавшихся его услугами. Придворный еврей курфюрста Саксонского Августа II Беренд Леман (1661–1730) в 1697 году сумел собрать 10 миллионов талеров, с помощью которых его патрон выиграл «выборы» и стал королем Речи Посполитой. Даже ревностный католик Карл V имел своего «еврея в ливрее» Иосефа из Росгейма (1476–1554), столь могущественного министра финансов, что император никак не мог обойтись без его услуг. При этом финансисты Вены, Гамбурга и Франкфурта были тесно связаны с банкирами и агентами Амстердама, Гааги, Лондона, Парижа, Венеции, Рима, Варшавы и т. д. И единая иудейская вера служила им своего рода порукой, гарантией надежности финансового партнера.
Но едва ли здесь следует видеть пресловутый «тайный еврейский заговор» в действии, исполнение якобы вековой мечты сынов Израиля верховодить целым светом. Если можно говорить о чем-то заговорщицком и бунтарском, то лишь о подкопе под основы феодального миропорядка. Очень точно выразил эту мысль американский историк-популяризатор Макс Даймонт: «Придворный еврей был революционером, провозгласившим приход совершенно нового, капиталистического государства, уничтожавшим власть и привилегии знати. В придворных евреях знать предвидела свою погибель».
Но обратимся к России первой половины XVIII века. До капитализма, а тем более до погибели знати здесь было, прямо скажем, далековато. Кроме того, в отличие от более веротерпимого Запада, где в большинстве стран к тому времени существовали еврейские общины, страна сия, как сказал тогда один титулованный юдофоб, была «доселе единственным государством европейским, от страшной жидовской язвы избавленным». Не только жительствовать, но даже въезжать иудею в ее пределы строго-настрого возбранялось.
Однако, как посетовал когда-то историк-антисемит Александр Пятковский, «почти каждая ограничительная мера против евреев вела за собою и разные личные исключения». Есть таковые и в нашем случае, хотя их можно пересчитать по пальцам одной руки. Сохранившиеся сведения о таких евреях по преимуществу крайне скудны и отрывочны. Так, известно, к примеру, что некоему Абраму Роту Петр I дозволил открыть аптеку в Москве. А царскому фактору и торговому агенту уроженцу Вильно Израилю Гиршу в 1715 году за подписью «полудержавного властелина» Александра Меншикова был выдан патент на проживание в Риге – городе, традиционно закрытом для иудеев. Его сын, Зундель, обосновался с семьей в Петербурге и вместе с компаньоном Самсоном Соломоном стал поставщиком государева Монетного двора. Зундель занимался также доставками леса на судостроительные верфи и колесил по всей стране. Он и его сын Моисей Гирш оставались в Петербурге и после указа Екатерины I от 20 апреля 1727 года о высылке всех евреев из империи. В своем письме на высочайшее имя, подписанном «нижайший раб жид Зундель Гирш», он просил продлить их пребывание в России, что и разрешил император Петр II указом от 6 января 1728 года. Впрочем, все названные лица – фигуры третьестепенные, не сыгравшие в российской истории какой-либо роли.
Гораздо более интересен весьма приметный иудей Леви Липман. Два десятилетия он вращался в самых высших сферах государства Российского. Его жизнь и судьба весьма показательны, ибо за всю историю Дома Романовых он был единственным некрещеным евреем при Императорском дворе. То, что было типичным явлением для европейской придворной жизни, в российских условиях становится феноменом исключительным, казусом, выламывающимся из общепринятого порядка.
Фортуна широко улыбнулась Липману в мрачные годы царствования императрицы Анны Иоанновны, которые называют иногда временем засилья инородцев. При этом охотно цитируют Василия Ключевского: «Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». С легкой руки писателей XIX века правление Анны получило название Бироновщина по имени фаворита императрицы. И хотя видные российские историки (Сергей Соловьев, Александр Каменский, Евгений Анисимов) показали всю неосновательность преувеличения роли Эрнста Иоганна Бирона, равно как и существования при дворе какой-то особой «немецкой партии», некоторые исследователи и сейчас продолжают муссировать тезис о происках злокозненных русофобов.
По логике некоторых из них, получается, однако, что ту эпоху следовало бы именовать не Бироновщина, а Липмановщина, поскольку фаворит императрицы был якобы полностью обезличен приближенным к нему придворным банкиром Леви Липманом. Александр Солженицын в книге «Двести лет вместе» утверждает, что Бирон якобы «передал ему все управление финансами» и «обращался за советами по вопросам русской государственной жизни». А иные мемуаристы и литераторы прямо говорят, что Бирон вообще не принимал ни одного решения, пока оно не было одобрено этим евреем, и делают однозначный вывод – это Липман правил Россией! Спорное, мягко говоря, заявление! Нам остается, следуя историческим фактам, показать истинную картину.
Известно, что Липман был придворным евреем герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха (1700–1739) – отпрыска шведских королей. Хотя еврейская община в Голштинии была не слишком многочисленна и не все города проявляли к иудеям одинаковую толерантность (в Киле и Любеке, к примеру, евреям жилось хуже, чем во Фридрихштадте, Глюкштадте и Ренсбурге), Карл Фридрих национальными и религиозными фобиями не страдал и услугами евреев-финансистов охотно пользовался.
Надо сказать, что император Петр Великий связывал с этим герцогом, претендентом на шведский престол, насущные геополитические интересы империи, прочил ему в жены свою дочь и летом 1721 года радушно принимал его в России. Герцог прибыл в Московию со своей свитой, в коей были и придворные Моисеева закона, получившие специальное (!) разрешение въехать в страну как сопровождавшие такую высокую особу. Первое упоминание о Леви относится именно к этому времени. Голштинский камер-юнкер Фридрих-Вильгельм Берхгольц в своем «Дневнике» от 23 июня 1721 года сообщает о своей остановке на пути в Петербург в известном трактире «Красный Кабачок», что в 15 верстах от города. «Вскоре после меня, – продолжает он, – приехал туда же с почтою из Ревеля наш жид Липман и немедленно отправился дальше». Пребывание Карла Фридриха в России затянулось на долгие шесть лет: он сочетался браком со старшей дочерью императора Анной, стал членом Верховного тайного совета. И именно благодаря своему патрону Липман обрел полезные связи.
Судьбоносным стало для него знакомство с будущей императрицей Анной Иоанновной, в то время вдовствующей герцогиней Курляндской. Историк Мендель Бобе в книге «Евреи Латвии» (2006) утверждает, будто бы Липман при Анне «управлял всеми финансами герцогства». На наш взгляд, это маловероятно. Ведь известно: жизни Анны в Курляндии сопутствовало хроническое безденежье, о чем герцогиня постоянно жаловалась в письмах прижимистому «батюшке-дядюшке» Петру I и «тетушке-матушке» Екатерине I. Она всегда была в долгах, как в шелках. «Принуждена в долг больше входить, – писала она в Петербург, – а не имея чем платить, и кредиту не буду нигде иметь». Понятно, что заниматься финансовыми делами нищей Курляндии нашему еврею не имело никакого резона. А потому более логичной представляется нам версия историка Юлия Гессена: герцогиня тогда сильно нуждалась в деньгах, а Липман имел случай быть ей в этом полезным. Все денежные поручения Анны выполнял Эрнст Иоганн Бирон, ставший с 1722 года камер-юнкером ее двора. С ним-то и довелось вести дела Леви.
Эрнст Иоганн Бирон
По-видимому, Липман заслужил благосклонность русского двора: когда со смертью Екатерины I поддержка притязаний Карла Фридриха на шведский престол ослабела, тот утратил какое-либо влияние при дворе и был вынужден летом 1727 года вернуться в Голштинию. Леви же остался в Петербурге. Примечательно, что вскоре после отъезда герцога, а именно 26 июня 1727 года, согласно указу, подписанному временщиком Александром Меншиковым, «еврею Липману» выплачивается 6000 рублей «за сделанные три кавалерии (ордена) Святой Екатерины с бриллиантами». Баснословно дорогие перстни и «разные золотые и серебряные с бриллиантами вещи» доставлялись через Липмана юному императору Петру II и его августейшей сестре Наталье Алексеевне, за что в 1728 году ему было заплачено 32001 рубль. (Надо понимать, что рубль тогда ценился дорого и по современным масштабам это действительно астрономические суммы!) Леви признавали авторитетным знатоком ювелирных изделий: после кончины цесаревны Натальи Алексеевны именно ему было поручено оценить все оставшиеся ее драгоценности.
Но особенно преуспевал Леви в царствование Анны Иоанновны. По-видимому, при всех ее недостатках, Анна помнила добро. Как заметил датчанин Педер фон Хавен, «как скоро императрица достигла престола, то в особенности наградила очень щедро некоторых купцов, которые именно решались давать деньги в заем». Одним из них был, несомненно, Леви Липман. И думается, не вполне правы те историки, которые полагают, что он – ставленник исключительно Бирона, а Анна Иоанновна будто бы не решилась перечить своему фавориту и лишь потому возвысила его протеже. В действительности императрица была снедаема самыми противоречивыми чувствами: ее врожденный антисемитизм утишила благодарность к Леви за его прежние услуги, а нетерпимость к басурманам разбилась о неукротимое стремление не отставать в роскоши от дворов политичной Европы. Итак, чаша весов склонилась в сторону «полезного» еврея Липмана. «Щедра до расточительности, любит пышность до чрезмерности, отчего ее Двор великолепием превосходит все прочие…» – говорили об императрице знатные иноземцы. И никто лучше Липмана не мог угодить самым прихотливым вкусам охочей до роскоши русской монархини. Уже в самом начале ее царствования, 30 июня 1730 года, «купцу Липману… за взятые у него к высочайшему Двору алмазные вещи» пожаловано 45000 рублей; в 1732 году приобретен бриллиантовый перстень ценой в 15000 рублей; в 1733 году последовал монарший указ об уплате еврею около 160000 рублей.