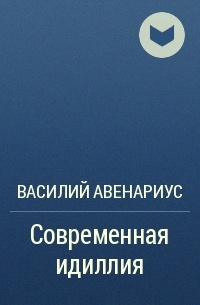Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
IX. Ржаной хлеб и безе
Не более успеха, однако, имел и правовед у гимназистки.
– Поедете вы отсюда в Париж? – спросил он ее по-французски.
– Не думаю, – отвечала она на том же языке. – Сестра пьет сыворотки и, вероятно, придется пробыть здесь все лето. Да в Париж в это время года, я думаю, и не стоит: жарко, душно, как во всяком большом городе; да и вообще туда, кажется, не стоит.
– Ай, ай, m-lle Nadine, какие вы вещи говорите! Париж – центр всемирной цивилизации, всякого прогресса: науки, искусства, высшее салонное образование, всевозможные безобразия наконец – все это сосредоточено в новом Вавилоне, как в оптическом фокусе, и всякого мало-мальски образованного человека влечет туда с неодолимой силой, как магнитная гора в арабской сказке. Приблизится к такой горе на известное расстояние корабль – и все железо корабля: гвозди, обивка и прочее вырывается само собою из стен его и мчится навстречу волшебной горе.
– То-то, – подхватила Наденька, – что когда железные части такого корабля отрывались от него, существенные составные его части, как-то бревна и доски, лишались взаимной связи, распадались, и бедные пассажиры судна погибали в волнах. Молодежь, стремящаяся на всех парусах в Париж, лишается там своих гвоздей и распадается в ничто. Недаром гласит немецкая поговорка: «Nach Paris gehen Narren, davon – kommen Gecken»68.
Правовед усмехнулся, подбросил себе в глаз стеклышко (в чем достиг настоящей виртуозности) и свысока посмотрел на собеседницу.
– С ваших, m-lle, хорошеньких губ как-то странно слышать столь резкий приговор. Верно, Добролюбова начитались?
– Не скрываю, начиталась.
– Кстати, как вы смотрите на танцы? Добролюбов по своей неуклюжести, не танцевал, – поклонники его ненавидят танцы.
– Видите, m-r Куницын, я люблю побесноваться, покружиться; как-то особенно весело, точно улетаешь куда-то; но все-таки танцы – ребячество, глупость. Лиза тоже не танцует.
Куницын расхохотался.
– Потому и глупость, что m-lle Lise не танцует? Она для вас авторитет? В настоящее время, m-lle, авторитеты – нуль, всяки имеет обо всем свое собственное мнение.
– Да и я же высказываю свое собственное мнение! Ну, сами посудите: в огромный, празднично освещенный зал сходится в пух и прах разряженная толпа – для чего, спрашивается? Чтобы попрыгать, как марионетки, под такт музыки! Неужели это не глупо?
– А, нет, m-lle, в некоторых отношениях бальная музыка решительно незаменима. Она заглушает задушевный разговор, так что изливайся перед любимым существом сколько угодно – никто не услышит. Потом она дает случая обнять это любимое существо, прижать от глубины души к сердцу, что во всяком другом случае было бы преступлением.
– Все это вздор! – перебила Наденька. – Вы говорите про любимое существо, а любовь – нелепость!
– Вот как! А не обожали ли вы сами в гимназии кого-нибудь из учителей?
– Были у нас глупенькие, которые обожали. Я слишком умненькая для того.
– Погодите немножко, придет и ваша пора, будете сами глупенькой.
– А вы уже глупенький?
– К вашим услугам.
– То-то я заметила, – Наденька засмеялась.
– Смейтесь, смейтесь! Вспомяните мое слово: не успеете оглянуться, как окажетесь глупенькой.
– Перестаньте вздор нести, – серьезно заметила гимназистка. – В сентиментальный период романтиков любовь действительно была в моде; нынче она брошена, как шляпка старого фасона.
– Так-с. И всякая привязанность вздор?
– Привязанность? Нет, разумная – не вздор. Разумная привязанность рождается вследствие долгого знакомства с предметом нашей привязанности, когда мы успели вполне убедиться в душевных достоинствах его. Любовь же, в том смысле, как вы ее понимаете, – в смысле влюбленности, безотчетного, глупого влечения, – разлетается, как дым, коль скоро любимое существо сойдет с пьедестала, на который вознесено нашей же фантазией, и разоблачится в свою обыденную, человеческую форму.
– Прошу извинения за откровенность, – сказал, – смеясь, Куницын, – но слова ваши так и отзываются риторикой. Верно, цитируете Добролюбова?
– С чего вы взяли, что у меня нет собственных убеждений? Впрочем, если не у Добролюбова, то у Белинского, учителя его в деле критики, действительно есть нечто подобное: кажется, в восьмом томе, где он разбирает Пушкина.
– Ха, ха, ха!
– Чему обрадовались? Белинский, кажется, уважительный авторитет?
– Я только что говорил вам, что не признаю авторитетов. Впрочем, смеялся я не тому. Меня забавляет, что вы запомнили так хорошо и том, и статью.
– Не диво вспомнить, когда в восьмом томе всего две статьи.
– Что же говорит о привязанности ваш Белинский?
– Он не отвергает ее, однако считает ее возможною только в случае взаимности. Любят вас (разумеется, чувством привязанности, а не влюбленности) – и это до такой степени льстит вашему самолюбию, что вы начинаете сами благоволить к любящему, пока не полюбите его так же нежно, как он вас. Станет он пренебрегать вами – и вы, как окаченные холодною водою, остываете мгновенно. Привязанность без взаимности и верность до гроба могут быть допущены только как натяжка воли или – расстройство мозга!
– Сами вы себе противоречите, сударыня: только что говорили, что любовь не в моде, а теперь допускаете ее в случае взаимности. Ведь Белинский говорит же о любви между мужчиной и женщиной, а не между лицами одного пола?
– Н, да… Наденька замялась.
– А все виноват синьор Белинский! Я вот хоть сознаюсь откровенно, что не могу одолеть его: больно фразист и учен; вы же цитируете его, да сами сбиваетесь на нем.
Наденька покачала головой.
– Вы не понимаете меня… вы слишком молоды. Куницын сострадательно усмехнулся.
– Ну, а вы-то совсем еще ребенок.
– Извините! Мне скоро шестнадцать, а девицы развиваются несравненно ранее мужчин. Вам сколько?
– Двадцать первый.
– То есть двадцать. Девушка в шестнадцать лет считается уже взрослой, а мужчина в двадцать все еще недоросль.
– Не хочу спорить, – с достоинством произнес правовед, – пусть за меня говорят факты: в чем, спрашивается, заключается развитость шестнадцатилетней девицы, чем превосходит она нас: телесным или умственным развитием? Девица в шестнадцать лет еще большая невежда в науках, чем мальчик того же возраста, потому что начинает уже выезжать на балы, тогда как мальчик еще продолжает учиться; следовательно, развитость ее только телесная. Что ж! Собаки взрослы уже на восьмом месяце. Я, положим, еще недоросль, а между тем окончил уже курс в училище правоведения, а между тем уже имею девятый класс!
– Что это: девятый класс?
– Это значит: титулярный. Даже кандидаты университета получают только десятый!
– Да так и следует, – сказала Наденька, – они знают несравненно больше вас.
– Да нет, вы, кажется, не так понимаете: девятый класс выше десятого.
– Как так выше?
– Конечно, выше. Самый высший – первый класс, затем второй и т. д., четырнадцатый или китайский император – низшая степень.
– Как же я этого не сообразила! – насмешливо заметила Наденька. – Станут студентам давать ту же степень, как правоведам! Помните, у Добролюбова:
Правый брег горист, а левый брег низмен, Так и все на Руси – что выше правее бывает.
В университет поступает народ неимущий, низкий, парии, народ печеный из грубого, ржаного теста. Ржаной хлеб, пожалуй, и сытнее, и здоровее кондитерских пирожков, но цена пирожкам всегда выше.
– Оттого выше, что они идут на стол образованного сословия, тогда как ржаной хлеб годен для одних мужиков.
– Неправда. И я люблю ржаной хлеб – с жарким, с супом. Посмотрела бы я, как бы вы сами стали заедать эти блюда сладким пирожком!
– Но под конец обеда, в виде десерта, всегда же приятно что-нибудь сладенькое, например, безе, или нет?
– Что касается специально меня, то я охотница до безе, но вкус у меня еще неразвит. Спросите-ка людей бывалых, испробовавших всего в жизни – они пренебрегают пирожным, и верно недаром.
– Пренебрегают кондитерским безе, потому что вкушали уже безе более сладостное – с прелестных уст. Вы пока знаете только безе первого рода, но сделайтесь глупенькой, то есть полюбите, и найдете вкус и в безе второго рода.
– Вы, m-r Куницын, как я вижу, большой эгоист: сами из породы безе, так и расхваливаете свою братью… Вам бы только пирожных, да поцелуев, да романчиков: как есть сахарные – того и гляди, развалитесь.
– Вы, m-lle, кажется, думаете, что я не беру в руки серьезных книг? – с важностью заметил Куницын. – Напротив: я прочел всего Молешота, всего Фейербаха, Прудона… Знаете, главный принцип Прудона: «Le vol c'est la propriete»…
– Что, что такое? Воровство – имущество?
– Да, имущество всякого… то есть всякому предоставляется воровать сколько угодно, не попадись только.
– И это главный принцип Прудона?
– Да, это принцип всех вообще коммунистов…
– Знаете, m-r Куницын, мне сдается, что вы не читали никого из этих господ.
Правовед обиделся.
– Что ж тут необыкновенного? Современному человеку надо ознакомиться со всеми отраслями знания. Я ведь и не говорю, что философия – вещь интересная; материя она скучнейшая, суше которой едва ли что сыскать; но возьмите-ж опять – долг всякого человека образовать себя… Если философы посвящали лучшие годы жизни сочинению отвлеченных теорий, не слыша около себя веяния окружающей жизни, то обязанность современного человека – дышать одною грудью со вселенной, мыслить со всеми и за всех, а следовательно, и с философами. Понятно, однако, что философия для нашего брата лишь дело второстепенное, одно из звеньев всей цепи наших знаний. А как философия такая непроходимая сушь, то чем скорее отделаться от нее, тем и лучше; ведь все равно ничего путного, реального не вынесешь. И могу похвалиться: перелистал на своем веку столько философских переливаний, что на всю жизнь хватит.
Наденька пожала плечом и не сочла нужным сказать что-нибудь.
«Странное дело! – рассуждал сам с собою Куницын, схлыстывая тросточкою пыль со своих светлых, широких панталон. – Чем же развлечь, привлечь ее? О Париже, о чувствах, о предметах серьезных говорить не хочет; о чем же, наконец, толковать с ней? Sacrebleu69!»
Он не догадывался, что гимназистке вообще не хотелось говорить с ним.