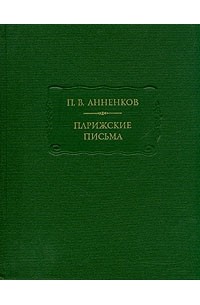Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
V
Луврская картинная выставка 1847 г.
Поверите ли, что я должен начать описание выставки возвещением о погибели исторической и религиозной живописи во Франции, по крайней мере в прошедшем году, труды которого собрала нынешняя выставка? Любопытно, что Дюссельдорфская школа ( 163 ) , имеющая претензию на сохранение лучших художественных произведений, нанесла первый удар исторической живописи. Она сделала это по излишеству любви и сочувствия к старым нравам и событиям, а за любовь, вы знаете, многое прощается. Желая проникнуть в задушевный, интимный смысл исторических событий и в глубокие оттенки характеров, доступные только романисту, она свела историческую живопись до tableau de ganre29. Что сделал Дюссельдорф из любви, за которую многое прощается, то сделала Франция по другому чувству – по отвращению к фразе, официальному пониманию исторических лиц и происшествий, наконец, по сомнению в тех и других. Вот уж это не так похвально, но удивительно, как в иное время и любящие, и не любящие люди бывают похожи друг на друга! Еще на прошлых выставках появились некоторые академики с картинами неслыханных размеров, содержание которых имело ложную торжественность, не оправданную историческими убеждениями народа. Их встречал, вы помните, сатанинский смех публики, и опозоренные им, побледнелые и сконфуженные картины скрывались в какой-нибудь угол провинциальной префектуры или в кассу какого-нибудь полезного заведения. Ныне ничего нет подобного. У старых художников, которые еще решаются появляться на публичную оценку (их немного: знаменитейшие имена Академии, исключая Вернета ( 164 ) , ничего не прислали на выставку), заметна робость, нетвердый шаг, как будто недоверие паствы смутило самого жреца. Вы помните, например, того Деверия (Devéria) ( 165 ) , который несколько лет тому назад взял момент рождения Генриха IV ( 166 ) для картины, полной грома, треска и преувеличений. Она находится в Люксембургском музеуме. Eugéne Devéria явился ныне с картиной «Рождение Эдуарда VI» ( 167 ) и последовавшею затем смертью матери его Жанны Сеймур ( 168 ) , которая на великолепном ложе, окруженная всеми своими дамами, покрытая бархатным одеялом, умирает, бросая последний взгляд на младенца, убившего ее. Уже большое снисхождение сделал художник господствующему вкусу публики, разорвав страданием красоту лица несчастной родильницы, и все-таки публика проходит без внимания мимо картины, находя в ней смерть все еще неестественно учтивою, умеренною, благовоспитанною. Тем менее расположена публика обманывать новые таланты вредным снисхождением. Я был даже удивлен решительным приговором, который произнесла она портрету Наполеона во весь рост, в императорской мантии, написанному Ипполитом Фландреном (Flandrin) ( 169 ) для одной из зал государственного совета. Самое великое имя, за которым уже многие посредственности находили спасение, не спасло теперь художника от осуждения за голубой фон, на котором вырезывается голова императора, с выражением браминского погружения в самого себя. Так даже ошибка в роде величия, замещение данного характера другим, большим или меньшим, все равно, здесь тотчас же чувствуется историческим тактом массы, толпы. Трудно даже представить себе, как быстро понимает она всякую натяжку возвести до огромного значения происшествие, не заслуживающее этого само по себе, и несмотря на всевозможную ловкость обстановки, которою художник старается иногда подкупить зрителя в свою пользу. Примером этому служат ныне две картины: «Сикст V ( 170 ) , благословляющий Понтийские болота» Рудольфа Лемана ( 171 ) и «Основание Королевской коллегии Франциском I» господина Делорма ( 172 ) . В этих картинах есть все для успеха в любом государстве Европы: движение бесчисленного количества лиц, распределенное умно, группировка их, показывающая художнический расчет, наконец, самые их огромные размеры и заметное изучении предмета. В них нет только гармонии колорита и того, что называется стилем; но не это оскорбило особенно эстетическое чувство французов, а усилие раздуть отдельное явление до смешной важности, в которой теряет оно не только способность действования на других, но и весь свой смысл. Критика сделала несколько весьма строгих замечаний художникам, а публика изобрела для подобных картин название исторических маскарадов. Само собою разумеется, что это требование поставить каждое событие и лицо на свое место и дать им настоящее выражение, должно было породить живописные биографии, занятие частными явлениями, словом, особенный род изображения отдельных происшествий, то есть историческая tableaux de ganre. Конечно, прежде этого не было, да ведь и жизнь была простее за три столетия. Не правда ли? Когда содержание готово, то можно брать формы откуда угодно – с итальянской улицы, с антика, с фигур, уцелевших на старой стене. В такие эпохи художник встречает на перекрестке красивого мальчика и делает из него Крестителя, присматривается к древнему саргофагу и переносит его мотивы в барельеф христианского содержания; тогда Форнарина ( 173 ) и Виоланта ( 174 ) чудным образом служат типами для изображения римских лиц духовной и светской истории. Не так бывает, когда содержание утрачено для искусства, и нужно отыскивать его в естественном движении современных идей. Произведения художника, который теперь хочет миновать их, всегда будут иметь пискливый голосишко человека, изуродовавшего себя из похвальной цели. Теперь всякому художнику предстоит двойной труд – угадать верное содержание и обработать его в искусство. Но, оставив это в стороне, можно повторить, что критическое направление привело французскую живопись к тем же результатам, к каким немецкая приведена была добросердечием своим и сыновним уважением к предкам.
Это хорошо, да вот какая беда, оказывается: самый род крайне тесен и ничтожен. Подумайте только, два человека в Европе – Лессинг из Дюссельдорфа да Поль Деларош ( 175 ) из Парижа – успели дать историческим tableaux de gerne теплоту романа, занимательность посмертных записок и трогательность задушевной исповеди. И с какими пожертвованиями сделали они это! Не принуждены ли они были существом самого дела теряться часто в отделке самых микроскопических подробностей, без которых в подобных картинах нет полноты впечатления? Не походят ли произведения их на живописные барельефы от противопоставления множества лиц, которыми художники должны были заниматься с одинаковой тщательностью и любовью, если хотели быть верными собственному направлению? Я, видевший в промежутке трех месяцев Лессингова «Гусса» во Франкфурте и Деларошевскую «Иоанну Грей» ( 176 ) в Париже, в Обществе вспоможения артистам, знаю положительно, сколько было пожертвовано художнических требований старанию уловить историческую истину. А что же после этого сделает из этого рода (tableaux de gerne) фаланга второстепенных талантов? Разорвет событие на анекдоты, на составные его части, это легко, но… увы! ложь может быть так же присуща сказочнику, как и составителю ходульной эпопеи. Она будет только у первого измельчавшая, если смеем выразиться, ложь… Нынешняя выставка всего лучше объясняет мои слова. Роберт Флери ( 177 ) , творец «Аутодафе», явился с двумя картинами: «Галилей перед судилищем», произносящий свое знаменитое: «Е pur si muove»30 и «Христофор Колумб, представляющий Фердинанду экземпляры (!) индейцев, им открытых». Сюжеты, как видно, совершенно в духе tableaux de gerne, что не мешает им быть в исполнении ложными и сухими в одно время. Зверообразно смотрит кардинал на старичка, лукаво произносящего свою фразу в первой картине; с мольбой и негой протягивают экземпляры индианок руки к королю, прося свободы, во второй, и все это в тёмнокрасном колорите; исполнение посредственное, свойственное этому художнику. Обман фальшивой естественности рознится с обманом надутого величия только тем, что первый по плечу всякой ничтожной личности и ею принимается с некоторым удовольствием. Многие буржуа говорят про «Галилея» Роберта Флери нечто вроде: «Старая лиса – так и видно». Это особенная манера выражать сочувствие к великим действователям и понимать их. Пропускаю картину Александра Гессе ( 178 ) , изображающую народный восторг венецианцев при освобождении из тюрьмы адмирала Пизани ( 179 ) , и другую Жакана (Jaquand) ( 180 ) , представляющую Карла V ( 181 ) в монастыре, выслушивающего выговор другого монаха за рассеяние. Они обе обращают внимание публики именно яркостью ложной своей стороны; публика имеет ухо, чтобы различить диссонансы трескучей живописи, и совершенно беззащитна, когда принимают покорный вид искатели истины. Резкая пестрота и судорожное увлечение в первой кажутся настоящим итальянским бытом; мелодраматический монах во второй соответствует дурному мнению об Испании. Дело только в том, что ложь, согнанная с пьедестала, на котором она непомерно чванилась, оделась попроще, стала добрым малым и теперь гуляет под руку с самыми правдолюбивыми людьми, даже на публичных прогулках, а те и не подозревают, с кем идут они и как компрометируют себя таким сообществом.
При всем моем желании быть кратким, не могу умолчать о картине Шопена ( 182 ) , того самого, который уже составил себе репутацию мастерством низводить библейские рассказы до фельетонных повествований: вспомните его «Суд Соломона», «Целомудренного Иосифа» и проч. Он явился с четырьмя картинами, из которых одна – «Молодость Людовика XIV», вылощенная, манерная, холодная и с матовым блеском табакерочной доски, украшенной живописью, особенно хорошо показывает, что оба рода, торжественный и будничный, могут иметь одинаковые результаты. Смешны кажутся версальские плафоны, на которых Юпитеры и Аполлоны имеют профиль и даже позу основателя дворца; странны кажутся богини с ужимками придворной любезности; но спрашиваю: менее ли смешна и странна мещанская сцена, явно рассчитывающая на умиленного зрителя, в которой Анна Австрийская ( 183 ) со слезами умоляет Конде ( 184 ) о защите малолетнего сына, уже (в противность всем историческим данным) думающего о будущем своем величии, грозного и негодующего? Если сантиментальность подобной картины может действовать на человека, я не знаю, почему и статуя Людовика XIV в парике и тоге на Place de la Victoire31 не может погрузить его в священный ужас. Разве не одна и та же расчетистая мысль породила их мимо истины, мимо всех свидетельств современных, мимо исторического и иного приличия? Да уж если подумать хорошенько, так смешное обоготворение великой личности, право, лучше этого воззвания к чувствительным сердцам, посредством которого любой bourgeois может связать собственные свои семейные делишки с отечественными событиями. Есть в истории случай, особенно любимый этим направлением, именно – смерть Марии Стюарт. Почти не проходит выставки, где бы происшествие это не явилось в более или менее пошло-слезливом виде. Не обошлась без него и нынешняя, да, вероятно, еще редкая мастерская в Европе не имеет пюпитра с этим эпизодом английской истории. Подумаешь, что человечество из всех поминаний своих предпочитает, разумеется, после проступка нашей прабабушки Евы, одно это, а все потому, что каждая мать семейства, даже не имеющая дочерей, может умилиться перед ним. Какое прекрасное лицо в истории составляет несчастная Шотландская королева, когда все усилия художников опошлить его до сих пор не имели успеха! Говорить ли вам о веренице картин в том же роде, красующихся по стенам бедной Луврской галереи, о принцессах, раздающих милостыню безобразным нищим, о верных служителях с затаенными мучениями любви, о всех этих произведениях, в которых ничтожность мысли спорит с немощью исполнения?.. Одна любительница, г-жа Каве (Cave) ( 185 ) , изобразила выздоровление юного Людовика XIII ( 186 ) , расслабленного и играющего в шашки с важным сановником, полным угодливости и благоговения. Кругом себя я слышал: «Pauvre petit, comme il est souffrant!»32 Из исторических tableaux de gerne удалась ныне одна, но именно потому, что в ней нет никакого исторического лица и никакого исторического события. Изабе (Eugène Isabey) ( 187 ) представил толпу разодетых кавалеров и красивых дам в костюмах XVI столетия, подымающихся по большой лестнице Дельфтского собора. Верхняя галерея готической церкви изукрашена знаменами, наполнена музыкантами, и между тем как первые группы уже входят в церковь, приветствуемые звуками труб, другие тянутся по лестнице, а толпа внизу разбивается на пары и торопится следовать за другими. Какая это церемония, кто эти люди, зачем они собрались и что празднуют – неизвестно, но вся картина похожа на беглый взгляд в прошедшее. В ней есть движение, жизнь, а размашистое и несколько поверхностное исполнение еще более придает ей вид прозрения, замеченный многими знатоками с похвалою.
Таково состояние исторической живописи на нынешней выставке.
Что касается до религиозной живописи, вы очень хорошо знаете, что Франция никогда не достигала чистоты духовного созерцания, так сильно заметного в Римской и в первоначальной Фламандской школах. Несмотря на все исключения, какие могут быть представлены, можно утвердительно сказать, что с Лебрена ( 188 ) до Горация Вернета включительно в религиозную живопись Франции беспрестанно врывались общественные привычки, условия и даже капризы. Примеров много. На глазах наших завоевание Алжира внесло арабский элемент в представление священных событий; прежде был элемент дворцовый; завтра будет элемент социальных теорий и проч. В ожидании последнего могу вам только сказать, что теперь религиозная живопись Франции представляет такую анархию, какою ни одно искусство в Европе похвастаться не может. Все существующие направления чудным образом смешались с воспоминаниями старой французской школы и порождают произведения крайней нелепости. Часто на одной картине вы видите мотив Пуссеня ( 189 ) с манерой Жувене ( 190 ) . Глаз и чувство оскорблены на каждом шагу. Еще хуже, когда художник захочет притвориться доверчивым и беззлобным младенцем; тогда из соединения лукавой простоты с хитростью, свойственною французскому гению, в искусстве происходят вещи поразительного безобразия. Нет, не чуток французский ум к тонине, заостренности религиозных ощущений и страшно падает, когда за ними погонится! Пройду молчанием большую часть картин духовного содержания, потому что насмешливый тон был бы здесь неприличен, а они все как будто написаны с целью пробудить самый застоявшийся юмор.
И весь этот длинный обход сделан мною для того, чтоб с достодолжным уважением приблизиться к настоящему зерну этой выставки, к произведениям новой Французской школы, и показать вам ее значение, необходимость, достоинства. Правда, многие из предводителей ее или не прислали картин, или были бесчестно высланы приемщиками (jury)33, состоящими, как известно, из академиков. Декамп ( 191 ) , Руссо ( 192 ) , Каба ( 193 ) не удостоились попасть на выставку; но и те, которые попали туда, как например: Делакруа ( 194 ) , Кутюр ( 195 ) , Коро ( 196 ) , Диаз ( 197 ) , хорошо выражают направление этой школы и сильное развитие ее в последнее время. На них-то обрушились отчаянные приговоры людей, считающих подобные явления последними признаками падения искусства; их-то встретили восторженные поздравления других, видящих тут вместо падения зарю нового и истинного развития его. Как будто сознавая свою силу, школа вышла из ограниченных рамок, в которых держалась доселе, и явилась с огромною картиной, которая затмевает все около себя, не исключая и новой «Юдифи» Вернета, имеющей почти столь же много внешнего блеску, как и старая, но гораздо менее внутреннего содержания. Я говорю о «Римской оргии времен упадка», картине г. Кутюра (Couture). Кутюр взял один чудный стих Ювенала ( 198 ) : «Пророк взялся отомстить Риму за побежденную им вселенную» (сатира VI-я) и выразил его в оргии, наблюдаемой в стороне двумя людьми, из которых одного вы сейчас признаете за Ювенала: так сильно отпечаталось желчное негодование на лице его. Любопытно следить за мыслью Кутюра в этой картине: он выражает тайную мысль самой школы. В отношении древнего мира никогда оргия не может служить упреком, еще сильнее признаком гражданского падения: в лучшие свои эпохи он любил ее и часто изображал ее в барельефах и в живописи. Чтобы свести ее до упрека, надобно было взять художнику совершенно другую сторону предмета: древние выражали ею накопление молодых сил, прорвавшихся на волю; надобно было художнику теперь, наоборот, показать оргию без наслаждения, издыхающую под бременем раздражительных ощущений, но издыхающую без удовольствия, без торжества, со всеми признаками скуки и душевной пустоты. Только такая оргия может существовать во времена упадка. Именно так и сделал Кутюр. Уже на первом плане его картины видите вы человека, убитого пиршеством и явно изображенного тут художником с намерением показать, как единая цель одурения заместила все другие требования долгого ужина. Направо от него рабы выносят труп другого собеседника. Как ни разнообразны мотивы нагих римлянок, возлежащих со своими любовниками, как ни сильно проявляется на задних планах раздражительное действие паров, везде одинаковое выражение тупоты и искусственной страсти, утомления сопровождает их жест, взгляд, действие, не исключая и того молодого безумца, который на левой стороне с пустым кубком бросается к статуе, требуя вина от самого цесаря. Замечательнее всего в этом отношении женщина посередине, опирающаяся на колена своего собеседника с изнеможением только что миновавшегося физического потрясения. С самой закраины картины глаз спокойно ведется художником через гирлянду цветов, перевивающих опрокинутые амфоры, до самого этого лица, и тут встречает женщину с блестящими черными глазами, в цвете молодости и красоты, но с таким выражением тоскливой думы, но бросающую такой взгляд скуки и безотрадного пресыщения, что она одна могла бы объяснить смысл картины, если бы ничего другого не было. Но вся картина Кутюра, написанная чрезвычайно твердо и смело, совершенно лишена отделки и того, что называется последним ударом кисти; импасто ее особенно неровно, все тельные части холодны, мертвенны, и светло-серый колорит составляет ее главный тон. После этого вы догадаетесь, почему она навлекла на себя так много осуждения со стороны любителей точной, определенной живописи. Но если вы поймете, что долгое бдение и жгучие наслаждения должны были под конец сообщить телу героев и героинь этой картины мраморный оттенок, если вы обдумаете, что пары долгого пиршества, в котором участвуют столько лиц, непременно должны образовать тяжелую атмосферу, на которую восходящая заря, застающая собеседников в их грустном веселии, бросает свой легкий, серебряный свет, тогда вы увидите ясно, что все кажущееся условным, произвольным в картине было сделано художником с намерением, для полноты законченного эффекта. Уразумев образ воззрения на историю новой школы, проявляющейся особенно ярко в этой картине, вы поймете и самый процесс, каким она передает его в искусстве.
Да, наскучив всеми фальшивыми подразделениями родов живописи, школа эта взяла за основное правило, что мир и история принадлежат всем, не составляя ничьего исключительного достояния. Как Вечный Жид, ходит она с тех пор по всему земному шару, вербуя для искусства всякую мысль, всякое явление, предание, рассказ, обычай, даже лепет народный и фантастическое видение какой-нибудь сказки. Поэтическое выражение, свойственное выбранному предмету, сделалось единственной целью ее усилий, последнею задачей, которую она старается разрешить. Отсюда вытекают все ее достоинства, которым соответствуют оглушительные «браво» в журнальных фельетонах, и все ее недостатки, которым идут параллельна мучительные «hélas!»34 в обозрениях. Старание уловить сущность предмета, выказать все его содержание в поэтической (заметьте!), а не обыкновенной естественности порождает иногда, кроме небрежности исполнения, составляющей основную черту школы, и другие недостатки, а именно – недостаток освещения. Рисунок и колорит в картинах этой школы отзываются прихотью и своенравием. Смотря по силе творческого таланта в художнике, все это может быть очень хорошо и очень не хорошо, но зато, по крайней мере, тут есть откровенность со стороны художника. Он берет на себя полную ответственность, не скрывается за школьными преданиями и, требуя полной свободы для себя, дает ее и всем своим судьям. Само собой разумеется, что тут также не может быть и помину о пошлости условного понимания вещей, а это – уже немаловажная заслуга. Шесть картин, выставленных ныне Делакруа, как разнообразием своих содержаний, так и манерой исполнения, всего лучше дают понятие о лицевой и задней сторонах школы, которой он считается корифеем.
Первая картина, поражающая нас при входе в длинную галерею, есть «Распятие» Делакруа. Спаситель на кресте испускает дух. Кто может иметь понятие о теме, которая спустилась тогда на землю и которая другой раз уже не повторялась во вселенной? Все усилия художника выдумать такой необыкновенный феномен, казалось, должны бы остаться бесплодными. Вот почему уже многие живописцы вместо мглы, скрывшей тогда солнце и небо, изображали сентябрьскую ночь, и никому в голову не приходило корить их. Делакруа не был остановлен однакож этою кажущеюся невозможностью. Не знаю, как сделал он, но он создал особенную мглу, в которую вошел красновато-синий оттенок, и ею задернул небесный свод. Конечно, тут все условно, странно и прихотливо, но поэтический эффект достигается вполне. Еще страшнее ночи фигура Спасителя, на мертвенном челе которого отражается грозный блеск феномена, это фигура с поникшею на грудь головою, с растворенною раной на боку, с перстами рук и ног, окостеневшими в судорогах!.. Тут бы и должен остановиться Делакруа; но, увлеченный собственною мыслью, он поместил еще внизу несколько лиц, которые выходят совершенно из плана и резкими движениями нарушают только величие ужаса, достигнутого художником в распятии и в ночи, служащей ему фоном. Особенно странен и смешон воин верхом: конь его пятится назад со всеми признаками разумного понимания дела. Слишком напряженное рвение дать выражение всем аксессуарам породило тут наивность, достойную веков карловингских.
Скачком, который может показаться вам крайне смелым, переношу вашу мысль от этой картины к «Марокканской скачке», где пять или шесть африканских наездников с развевающимися плащами и подымая густую пыль, несутся стремглав к цели, заряжая свои ружья и стреляя из них. При этой картине, самой своевольной, какую я когда-либо видел, не может быть слова не только об отделке, но даже о чем-нибудь похожем на достоверность. Вся она отражается в уме зрителя, как мгновенное впечатление от толпы, безумно промчавшейся и оглушившей вас. В этот момент сумасшедшей удали мелькнули перед вами неимоверные прыжки лошадей, неистовое увлечение всадников, и вместе с тем все подробности, линии и краски смешались. Это смутное впечатление бега взапуски Делакруа вздумал переложить на картину. Согласен, что здесь искусство вышло из пределов своих, в которых оно должно оставаться, если не хочет совершенного уничтожения в пустоте или метафизике; но, с другой стороны, надо иметь самообладание Будды, чтобы воспретить пораженному глазу своему удивление к энергии и таланту, с каким Делакруа выпутался из дела. Столько же силы настоящей и смешного преувеличения, ясности намерений и ошибки в способах, поэтического смысла в «целом и чудовищности в подробностях, знания живописных эффектов, с одной стороны, и странных художнических недоразумений – с другой, проявляется и в других картинах Делакруа, например, в «Жидах – музыкантах Могадора», а еще более в «Пловцах, испытавших кораблекрушение» и подбирающих в бедную лодку без весел и парусов, несомую волнами, трупы товарищей, встречающихся на пути. Безотрадность положения людей, отовсюду окруженных смертью и которые со всеми усилиями отчаяния занимаются вещью, совершенно для них бесполезною, выражена превосходно; но зеленая волна, уцепившаяся за лодку, как настоящий зверь, не принадлежит живописи и должна быть возвращена по праву Байрону, которым, вероятно, порождена. Все эти противоречия хотел я развить вам, но не знаю, удалось ли мне это? Время бежит, листы неимоверно накопляются! Г<ерцен> крадет у меня дни за днями ( 199 ) , и я спешу к концу. Заключу длинное описание это еще одной картиной Делакруа «Гауптвахта в Мекене» (Corps-de-garde à Méquinez). Два африканских муниципала преспокойно спят в своей караульне: один, прикрытый цыновкой, положил седло под голову, другой, просто прислонясь к стене; оба на полу. Солнце уже начинает играть в караульне, сообщая ей красный тон от седел и доспехов этого цвета, разбросанных в ней; но не оно составляет главный персонаж картины, а именно вот этот здоровый, крепкий, мертвенный сон, оковавший грубые, фантастические лица двух воинов. Сон этот кажется насмешкой над нашим тревожным, болезненным европейским сном. Чудная тишина разлита по всей картине и составляет резкую противоположность с судорожным движением, царствовавшим в прежде виденных нами картинах Делакруа. Так гибок и разнообразен талант этого человека, так с юношеским увлечением усваивает он все явления жизни, так даже в падении, когда случается ему падать (а падает он часто), еще заметно в нем обилие творческой силы, с которою он еще не может управиться.
До следующего письма о ландшафте и о том чистом роде (ganre)35, в котором французское искусство наиболее торжествует ( 200 ) , – до следующего, если, разумеется, настоящее доставило вам что-нибудь, кроме скуки.
20 апреля н. с.