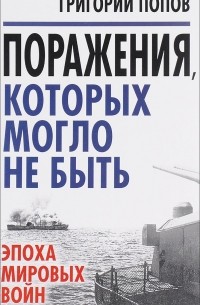Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Воевать – значит наступать. Жаркое лето в Галиции
Брусиловский прорыв является одним из крупнейших мифов о Первой мировой войне, что заключается в преувеличении его стратегического значения. Удар русских войск в Галиции пришелся по славянским дивизиям австро-венгерской армии. К концу 1916 г. славяне Австро-Венгрии не горели особо желанием умирать за немецкую династию Габсбургов. Утверждение о том, что наступление на Юго-Западном фронте спасло Италию и кардинальным образом повлияло на ситуацию на Сомме, носит преувеличенный характер.
Западные союзники требовали от России наступательных действий, так как Восточный фронт оттягивал слишком мало сил Германии – главного противника Франции. Жоффр рекомендовал наступать в самом неподходящем месте в Сев-Западной Белоруссии. Конечно, французский полководец никогда не бывал в лесах и болотах под Полоцком и Вильно, чтобы оценить сложность проведения наступательных операций по течению Западной Двины.
Русская армия уже успешно наступала на Юго-Западном фронте, это было в 1914 г., тогда были заняты обширные территории, почти вся Галиция. К коренному перелому наступление 3-й и 8-й армий в Первой мировой войне в 1914 г. не привело. Фронт стабилизировался через несколько недель после поражения 4-й австрийской армии.
В 1914 году русским войскам на Юго-Западном фронте не хватило резервов, Западный фронт их не смог поддержать, так как сам был скован борьбой с немецкими войсками. Похожая ситуация должна была произойти и в 1916 г., Брусилов не имел достаточно резервов для развития наступления, а возможности Западного фронта оказались очень ограниченными.
Весной 1916 г. германское верховное командование вообще не считало возможным какие-либо серьезные наступательные действия со стороны русских, сами немцы не планировали наступать на Востоке. Главной идеей некоторых военных стратегов Германии и Австро-Венгрии в начале 1916 г. касательно Восточного фронта являлось предположение о скорой революции в России, которая выведет ее из числа воюющих держав. Поэтому немцы сконцентрировали главные силы на Западном фронте.
В полосе русского Юго-Западного фронта были сконцентрированы преимущественно славянские дивизии 4-й и 7-й австро-венгерских армий. Австрийские генералы считали, что для обороны достаточно иметь сильную первую линию обороны, а второй и третьей линиями можно пренебречь. Это роковое решение о концентрации большей части укреплений фронта на первой линии было принято австрийцами, говоря народным языком, не от хорошей жизни. Славянские подразделения опасно было размещать преимущественно во второй линии, так как бегство заслонов из первой линии вполне могло вызвать панику во второй и третьей линиях и, как следствие, общее отступление всех войск с фронта. Вена была вынуждена бросить элитные дивизии против Италии и Сербии, поэтому войск на Восточном фронте просто физически не хватало, и «размазывать» малочисленные и нестойкие славянские части по трем линиям обороны было слишком рискованным делом.
Исследовательских материалов о тем событиях у нас мало, как и относительно других эпизодов Первой мировой войны, в Советском Союзе история этой войны была вообще полузакрытой темой. Белоэмигрантские общественные круги рассматривали Брусиловский прорыв как почти поражение стран Тройственного союза в войне. Посмотрим. Начнем с рассмотрения влияния Брусиловского прорыва на ситуацию в Италии.
В ряде советских/российских источников имело место утверждение, что наступление Юго-Западного фронта началось ранее намеченных сроков под нажимом обстоятельств, связанных с поражениями итальянской армии в Альпах. Однако из Секретного доклада Алексеева Николаю II следует, что наступление Юго-Западного и других фронтов планировалось Россией на май 1916 г. с целью поддержки действий союзников под Верденом. Кризис итальянской армии совпал по времени с планировавшимся российской армией наступлением, возможно, оно запаздывало из-за того, что армию не успели подготовить в срок.
Через день после объявления Австрии войны (24 мая 1915 г.) Италия начала приграничное наступление. Австро-Венгерское верховное командование было сильно озадачено случившимся, решив отвести войска за Саву и на равнине дать генеральное сражение итальянцам. Однако генерал Фалькенштайн убедил Генеральный штаб в крайней рискованности такого шага, у австрийцев у границы с Италией было мало сил, и возникла угроза, что противник просто раздавит их на равнинах Савы своей численностью.
Австрийцы в условиях Альп не смогли бы наступать, хотя, как пишет Людендорф, такие действия весной 1916 г. были (этому в воспоминаниях германского стратега посвящен буквально краткий абзац). Людендорф указывает на 15 мая 1916 г. как на дату начала австрийского наступления на итальянский Тироль, но к концу этого месяца наступление выдохлось, так и не дав никаких результатов. Примечательно указание срока фактической остановки наступления – конец мая.
Итальянские Альпы стали неприступной крепостью итальянских фашистов в 1945 г., именно там была сформирована знаменитая республика Соло – последний оплот режима Муссолини. В 1914 году австрийцы не смогли одолеть Черногорию, которую защищали сорок тысяч ополченцев, в горах воевать сложно. Именно, по всей видимости, поэтому Фалькенхайм отказался поддержать план Конрада о совместном, австро-германском наступлении против Италии. По планам австрийского командования, в наступлении против Италии должны были принять участие 25 дивизий Австро-Венгрии и Германии, но из-за отказа последней от участия в операции итальянские Альпы начали штурмовать только 18 дивизий.
Стратегическое положение Италии было схоже с российским, ее действия жестко координировались французским Генеральным штабом, поэтому итальянцы вынуждены были проводить в 1915 и в середине – конце мая 1916 г. неподготовленные наступления в районе Изонцо. В начале своего участия в войне Италии мешало то обстоятельство, что у ее армии было очень мало артиллерии; когда к осени 1915 г. эта проблема была решена, возник дефицит обученных армейских кадров, так как в ходе наступательных операций Италия лишилась своих лучших солдат. Таким образом, к весне 1916 г. старая итальянская армия была в большинстве своем выбита, а пришедшие ей на смену резервы еще не прошли достаточной подготовки и закалки в боях.
Австрийское командование указывало на вероятность успеха общего наступления на итальянском фронте в связи с опытом наступления армий государств Центра против Сербии в 1915 г. Однако условия Сербии коренным образом отличались от итальянского театра. Германской и австро-венгерской армиям на Балканах противостояли малочисленная сербская армия. При этом жизненно важные городские центры и базы снабжения находились в равнинной части Сербии, к тому же за спиной у сербской армии была полудикая горная местность, способная служить укрытием, но не территорией, откуда можно проводить успешные контрнаступательные действия. Тем более в правый фланг сербам заходила болгарская армия, смешанная с расположенными на ее территории германскими подразделениями. На левом фланге у сербской армии висела Босния, насыщенная австрийскими войсками. Сербам пришлось сражаться фактически почти в окружении.
В Италии было все наоборот, дорогу к жизненно важным центрам преграждала стена Альп, итальянская армия могла получать, сражаясь в горной местности, снабжение и подкрепления с равнин своей страны. Средиземноморские коммуникации Антанты пролегали рядом с Италией и могли служить для постоянного снабжения ее армии со стороны западных союзников. Тылы флангов итальянских войск опирались на море. Почти идеальные условия для обороны.
Конрад все-таки решил наступать в середине мая 1916 г. Итальянские генералы были удивлены первым успехам австрийцев и быстро поддались панике, хотя угроза была преувеличена. В ходе своего наступления, которое закончилось 10 июня, австрийцы взяли в плен 45 тыс. итальянцев, всего Италия потеряла 150 тыс. солдат и офицеров. Австро-Венгрии эта операция стоила 80 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными (около 25 тыс. человек), но это были потери отборных войск, Конрад задействовал против Италии 6 элитных дивизий. К 20 мая 1916 г. австрийцы продвинулись вглубь территории противника на 8 км (общий итог наступления – продвижение войск Австро-Венгрии примерно на 22 км), захватив ряд пунктов в предгорьях, но так и не решив ни одной крупной даже тактической задачи.
Начальник итальянского Генерального штаба Кадорна заранее знал о предстоящем австрийском наступлении, но не верил в его успех, поэтому, оставив незначительные силы под Трентино, он начал наступать в районе Изонцо.
Итальянские генералы недооценили возможности и дух своих войск, поэтому они стали просить Россию начать наступление в Галиции, чтобы отвлечь силы австрийцев. Брусиловский прорыв начался 4 июня, о его катастрофических для Австро-Венгрии масштабах стало понятно не ранее 6–7 июня, когда наступление Конрада в Италии уже выдохлось (27 мая силы австрийцев под Трентино были на исходе, и наступление можно было считать провалившимся). 30 мая наступление австрийцев приостановилось. Итальянцы получили короткую передышку, всего 2–3 дня, в ходе которой сосредоточили у Трентино порядка 40 тыс. солдат и офицеров, что, вероятнее всего, в итоге не позволило австрийцам успешно наступать.
Обратим внимание на даты: Кадорна обратился через Жофра к российскому командованию 30 мая с просьбой начать наступление в ближайшие 24 часа, но Брусилов начал операцию 4 июня, дав, таким образом, Конраду еще почти неделю свободы действий в Италии. Учитывая, что австрийцы стояли в 30 км от жизненно важных коммуникаций итальянской армии, эта неделя вполне могла стать роковой для Италии, окажись у Конрада достаточно резервов, но именно эта неделя и решила ее судьбу, а возможно, и судьбу всей войны. Итальянцы сумели сдержать измотанных наступлением в горах австрийцев, русская помощь оказалась явно запоздалой.
Предположим, что австрийцы добились в период между 30 мая и 5 июня решительных результатов под Трентино. В таком случае наступление Брусилова никак не смогло бы их заставить снять не столь значительные силы с итальянского театра действий (Конрад принял решение после 4 июня перебросить в Галицию 9 дивизий, и эти дивизии нуждались в отдыхе и пополнениях). На карте тогда стояло гораздо больше – выход Италии из войны и, вероятно, образование в тылу у французов нового фронта, а в таком случае и Германия оказала бы активную поддержку Австро-Венгрии даже ценой прекращения наступления под Верденом.
Тем не менее о подвиге итальянских военных в советской/российской историографии сказано «мелкой строкой», а в большинстве исследований таковой вообще не признан, но зато акцент всецело делается на решительном влиянии на ситуацию в Италии Брусиловского прорыва. Позднее в России и на Западе возникнет миф о беспомощных «итальянцах-макаронниках», мол, они от природы не солдаты и т. п. Мы вернемся еще к вопросу об Италии в другом исследовании, посвященном уже Второй мировой войне.
Итальянцы, якобы, находившиеся на грани поражения в войне, предприняли с 15 июня по 13 июля наступление под Трентино, вернув себе большую часть утерянных в мае позиций. В начале августа они разбили австрийцев у Изонцо, выведя из строя до 80 тыс. солдат и офицеров Австро-Венгрии, потеряв при этом 70 тыс. человек. На Изонцо итальянцы применили большое количество орудий – 1750 стволов на узком участке фронта, когда, скажем для сравнения, Брусилов задействовал на начальном этапе своего наступления 1938 орудий при гораздо большей протяженности фронта. Причем у Изонцо наступали итальянские части, переброшенные из-под Трентино вскоре после прекращения наступления Конрада. Таким образом, если итальянские войска после отражения австрийского наступления еще сохраняли высокий наступательный потенциал, то, значит, Италия была далека от поражения в июне 1916 г.
Телеграмма Кадорры могла иметь ряд посторонних мотивов, например, облегчить за счет русских штыков задачу наступления на Изонцо либо, может быть, ускорить наступление России, которое затягивалось русскими генералами, постоянно ссылавшимися на то, что армия еще не готова. При втором варианте, если бы было так, инициатива должна была исходить не от Кадорры, а от самого Жоффра.
Вместе с тем итальянская авантюра австрийского командования сильно помогла Брусилову, в Галиции российская армия встретила не отборные немецкоязычные и венгерские дивизии Австро-Венгрии, а преимущественно славянские подразделения. Что такое славянские дивизии, показали сражения 1914 г. на Балканах, когда маленькая сербская армия (всего 11 дивизий на то время) разбила австрийскую группировку войск численностью 500 тыс. человек, состоявшую преимущественно из чехов. При этом сербы вывели из строя около 250 тыс. солдат и офицеров противника. Произошло это в основном благодаря тому, что славяне не хотели стрелять в славян, и чехи толпами сдавались в плен сербам либо оставляли без боя позиции, австрийское командование недооценило фактор пробуждения национального самосознания у народов своей империи.
У австрийцев на русском фронте в Галиции и на Волыни имелось 441 тыс. солдат и офицеров (это, заметим, даже меньше, чем против сербов в 1914 г.), это мало, учитывая также низкую степень боеспособности армии Австро-Венгрии. Однако Конрад все-таки осуществил переброску нескольких боеспособных дивизий из Галиции на итальянский фронт, что было затем сочтено верховными командованиями Австро-Венгрии и Германии как трагическая стратегическая ошибка, повлекшая за собой разгром австро-венгерских войск в ходе Брусиловского прорыва.
Обратимся теперь к Французскому фронту, как Брусиловский прорыв повлиял на ситуацию там?
1 июля после шестидневной артподготовки союзники перешли в наступление на реке Сомма. Эта операция вошла в историю как битва на Сомме. Немцы, как утверждали советские историки и продолжают за ними повторять российские исследователи, перед этим перебросили часть своих сил на Восточный фронт (примерно 400 тыс. человек, или 30 дивизий, как у В. К. Шацилло), ослабив оборону на Западе. За четыре месяца боев англо-французские войска заняли участок фронта шириной в 10 км и глубиной в 35 км, то есть это был скорее тактический, нежели стратегический успех. Союзниками не было захвачено ни промышленных центров, ни важных транспортных узлов. Безвозвратные потери Германии составили 160 тыс. человек. Битва на Сомме имела большое моральное значение для союзников и дала крупный пропагандистский эффект.
Не совсем понятно, откуда взялась эта цифра – 400 тыс. немецких солдат и офицеров, переброшенных с Западного фронта против русских. В своих воспоминаниях Людендорф достаточно подробно описывает события, связанные с Брусиловским прорывом. Он четко указывает на то, что в период с июня по конец августа 1916 г. германская армия сдерживала натиск русских войск исключительно силами Восточного фронта.
Ни о какой переброске крупных сил из Франции Людендорф не упоминает. Он пишет лишь о трех сформированных летом 1916 г. дивизиях, предназначенных для обороны на Восточном фронте и состоявших из новобранцев, в том числе ранее назначенных на Западный фронт. Но эти три дивизии, укомплектованные, кроме того, и новобранцами, прикомандированными изначально к частям Восточного фронта, были готовы к развертыванию в августе 1916 г. Таким образом, германское командование сняло с французского театра боевых действий где-то 30 тыс. солдат и офицеров. Решение о крупной передислокации войск с Западного фронта было принято германским командованием в начале сентября 1916 г. на совещании штабов и командующих фронтов в Плессе.
Румынский фактор, по мнению А. И. Уткина, подтолкнул Германию перебросить значительные силы на Восток. Исполнение этого решения могло начаться в полной мере не ранее 10 сентября 1916 г., к этому времени бои на Сомме достигли уже своей кульминации, но при этом Брусиловский прорыв почти завершился. Однако А. И. Уткин утверждает, что передислокация германских войск произошла в августе, правда, когда конкретно в августе, не говорится. Данное утверждение известного российского историка противоречит воспоминаниям Людендорфа.
Лиддел Гарт также утверждает о том, что Фалькенхайм отдавал приказы о передислокациях войск из Франции на Восточный фронт, но при этом британским историком не указываются ни конкретные даты, ни численность перебрасывавшихся войск.
А. М. Зайончковский писал, что немцы перебросили с Западного фронта в общей сложности 24 дивизии, чтобы обеспечить стабилизацию Восточного фронта во время Брусиловского прорыва.
Даже в конце августа 1916 года решение о переброске войск из Франции не могло быть принято. Румыния вступила в войну 27 августа, и 28 августа Вильгельм II освободил Фалькенхайма от должности начальника Генерального штаба, утром 29 августа этот пост принял Гинденбург, а его заместителем стал бывший начальник штаба Восточного фронта Людендорф. Гинденбург и Людендорф плохо знали ситуацию на Западном фронте, им потребовалось не менее недели для вхождения в курс дела. Поэтому важные стратегические решения они могли принять не ранее 1 сентября. Даже важные приказы касательно оборонительной операции на Сомме немцы получили от Гинденбурга в начале 20-х чисел сентября.
Целью стратегической передислокации германских войск с Западного фронта была не Галиция, где находились силы Брусилова, а защита восточных провинций Австро-Венгрии от румынских войск. Австрийское верховное командование ни до, ни в начале войны не позаботилось о румынском направлении, в конце августа в Трансильвании практически не было австро-венгерских войск.
И еще одна важная деталь по поводу стратегической ситуации на Западном фронте. Несмотря на тяжелый удар Антанты на Сомме, немцы продолжали наступать под Верденом вплоть до начала сентября 1916 г. Если бы в результате Брусиловского прорыва Германия действительно оказалась бы в тяжелом стратегическом положении, то, вероятнее всего, наступательную операцию под Верденом ей пришлось бы прекратить еще в июне.
К 25 августа 1916 г. Восточный фронт, как пишет Людендорф, стабилизировался, русское наступление выдохлось. Сам Брусилов признал это 11 сентября, когда сообщил в Ставку, что его резервы истощены. Это же признавали и некоторые советские военные историки в 1920-е гг.
А. И. Уткин пишет о 33 дивизиях, переброшенных против Румынии, здесь-то и надо искать след тех 400 тыс. немцев, отвлеченных от битвы на Сомме. Людендорф указывает, что для спасения положения на Румынском фронте он и Гинденбург уговорили кайзера остановить наступление под Верденом, чтобы высвободить находившиеся на этом направлении дивизии, про то, чтобы снять войска из-под Соммы, у германского стратега ни слова.
14 июня 1916 г. 8-я русская армия, преследуя австрийцев, вышла на линию Сокуль – Киселин – Блудов в двух переходах западнее Луцка. Здесь они столкнулись с немецкими войсками, 14 июня это были 11-я баварская и 108-я пехотная дивизии, которые были переброшены с Западного фронта.
Итак, 11-я королевская баварская пехотная дивизия. 16 мая 1916 г. эта дивизия после больших потерь, понесенных в сражениях за Верден, была выведена германским командованием в стратегический резерв. В середине июня она действительно была переброшена под Стырь, но получается, она была переведена из резерва на Восточный фронт, а не прямо с Западного фронта. До 10 октября 1916 г. эта дивизия оставалась в Галиции, пока ее не перевели в Румынию.
108-я кайзеровская пехотная дивизия на момент начала Брусиловского прорыва находилась под Динанбургом (Даугалпис, Латвия). Была переброшена достаточно оперативно в зону русского наступления и уже 9 июня начала развертывание под Стырем, встретив авангарды 8-й армии там 15 июня.
Прорыв 7-й армии, который был многообещающим (в историю наступление этой армии Юго-Западного фронта вошло как Язловецкая операция), окончился достаточно неудачно после контрудара 48-й германской резервной дивизии, которая была переброшена на Восточный фронт в ноябре 1914 г., где и оставалась, когда ее застал на позициях Брусиловский прорыв.
Прорыв 9-й армии Юго-Западного фронта принес определенные успехи, но скорее тактического характера. Русские войска в районе наступления этой армии (Черновцы) не встретили немецкие части, 7-я австро-венгерская армия была достаточно сильной, что предопределило исход операции. 9-я армия смогла захватить 38 тыс. пленных, 48 орудий и 120 пулеметов, общие потери австрийцев составили 60 тыс. человек, но 9-я армия потеряла при этом 30 тыс. человек. Большие потери и растянутые в ходе наступления коммуникации привели просто к затуханию наступления 9-й армии.
В результате Брусиловского прорыва русским войскам удалось взять обширную территорию, но Львов и Ковель (важный железнодорожный узел) остались в руках армий Центра. То есть успех российской стороны оказался в 1916 г. меньшим, чем в 1914 г.
Генералом, спасшим Германию и Австро-Венгрию в 1916 г. на Восточном фронте, считали Феликса фон Ботмера. Он возглавлял на момент русского наступления Южную армию, специально сформированную в 1915 г. немецкую группировку для борьбы в Галиции. На участке, который обороняла Южная армия, российская сторона в лице 7-й армии Щербачева достигла наименьших среди всех участвовавших в наступлении Юго-Западного фронта армий результатов (рис. 5).
Российский Генеральный штаб допустил серьезную ошибку: 9 июня основным направлением развития наступления Юго-Западного фронта был определен район Равы-Рузской, что означало переброску остро необходимых фронту резервов под Львов в ущерб Ковельскому направлению, где русские войска создали 4–8 июня лучшие условия для развития дальнейшего наступления. Это окончательно привело к сворачиванию наступления, которое немцы иронично назвали «широкой разведкой без сосредоточения необходимого кулака».
У М. В. Оськина есть интересные данные по поводу директивы Алексеева о перемещении центра наступления на южный фланг 8-й армии. А. А. Брусилов не стал выполнять приказа Алексеева. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом просто приостановил наступление, ожидая начала наступления Западного фронта, чтобы нанести главный удар на Ковель, в направлении которого он, очевидно, уже самостоятельно наступать не мог из-за дефицита резервов, которые направлялись Алексеевым на южный фланг 8-й армии.
Рис. 5. Брусиловский прорыв
Суть директивы Алексеева нетрудно понять, если посмотреть на карту (см. рис. 5). Развитие наступления на Ковель открывало ее южный фланг для контрудара Южной армии фон Ботмера, которая сумела остановить прорыв 7-й армии всего лишь одной 48-й резервной дивизией. В соединении с австрийцами фон Ботмер вполне мог развернуть крупное контрнаступление в северном от своей диспозиции направлении. К 9 июня потери 8-й армии достигли 33 тыс. человек, австрийская сторона потеряла более 80 тыс. человек, но австрийцам удалось спасти большую часть артиллерийского парка 4-й армии, во многом этому способствовала тактика арьергардных засад, которую немцы широко применят осенью 1918 г. на Западном фронте. Сказалась и вялая реакция А. М. Каледина на быстрое отступление противника, командарм 8-й армии бросил свежий конный резерв – 12-ю конную дивизию генерала Маннергейма – с большим запозданием.
М. В. Оськин объясняет остановку наступления 8-й армии под Ковелем также опасениями Брусилова, что немцы могли ударить по северному флангу этой армии. Грубо говоря, фактически он разделял мнение А. М. Каледина, что генеральное наступление русских войск не принесет решительного успеха. Однако после войны Брусилов обвинял Каледина в излишнем пессимизме.
8-я армия оказалась в результате прорыва растянутой на широком фронте в более 170 км, что могло сделать ее легкой добычей, предприми немцы контрнаступление на северном фланге Юго-Западного фронта. Также стало понятно, что дефицит резервов не позволяет продолжать наступление даже против разбитых австрийцев, которые сумели организовать достаточно эффективную оборону под Сарнами. Правда, Брусилов получил 8 дивизий подкреплений в первую неделю своего наступления, но эти резервы были быстро брошены в бой. Брусилову требовалась целая резервная армия, но ее не было.
М. В. Оськин утверждал, что наступление Юго-Западного фронта в целом оказалось неудачным, так как Брусилов не выполнил директиву Алексеева наступать на Раву-Рузскую, чтобы не позволить австрийцам провести перегруппировку под Львовом. Вместо этого Брусилов стал ждать наступления Западного фронта, что дало немцам время организовать оборону под Ковелем, в болотистой местности. В результате Ковель превратился в отдаленный аналог Вердена на Западном фронте. Немцы, использовав передышку, провели серию относительно успешных контратак на Ковельском направлении, что означало перелом на Восточном фронте в целом, или, выражаясь словами Людендорфа, стабилизацию фронта.
Теперь вернемся к 33 дивизиям, упомянутым А. И. Уткиным. Кризис Австро-Венгрии на Румынском фронте длился около двух недель, перейдя затем в стремительное наступление 9-й германской армии под командованием бывшего начальника Генерального штаба Фалькенхайма, начало этого наступления в некоторых западных источниках датируется 18 сентября 1916 г. Если реальная переброска войск была начата немцами из-под Вердена не ранее 5 сентября, хотя есть все основания предполагать, что и позже, то к 18-му они никак не могли достичь Трансильвании, то есть самой восточной провинции Австро-Венгерской империи, которая, ко всему прочему, имела очень плохую транспортную инфраструктуру.
Официально о намерении начать генеральное наступление против Румынии было объявлено в приказе Гинденбурга от 15 сентября 1916 г., по сути, это был стратегический план войны на оставшуюся часть года.
Пропускная способность германских железных дорог в 1916 г. позволяла осуществлять переброску двух корпусов из Франции в Восточную Европу в течение двух недель, прибавим к этому путь через всю Австро-Венгерскую империю с ее плохими железными дорогами, время на развертывание войск в практически дикой местности Трансильвании. Получается, что германским войскам требовалось не меньше месяца для того, чтобы нанести удар по наступавшей румынской армии.
Удар по Румынии, начало которого Уткин, в отличие от некоторых западных историков, относит к 26 сентября, был нанесен австро-германскими силами в составе 200 тыс. человек, половину из этого числа составляли солдаты и офицеры кайзеровской Германии. 1 октября немцы овладели Петрошанами. Если принимать 26 сентября за дату начала наступления, то развертывание все-таки должно было произойти за неделю ранее, то есть где-то 18–19 сентября.
Людендорф пишет о некоторых частях, переброшенных с Западного фронта, которые появились на востоке Австро-Венгрии в десятых числах сентября. Он упоминает об этом факте вскользь, при этом указывая четко, что 9-я армия Фалькенхайма была сформирована из частей Восточного фронта, поскольку подразделения, прибывшие из Франции, были спешно отправлены в Галицию. О других передислокациях войск с Западного фронта Людендорф не упоминает. Ситуация в Галиции не была столь драматична в сентябре 1916 г., как в июне-июле, когда произошел Брусиловский прорыв, поэтому большого количества германских войск этот участок не требовал.
Обращаясь непосредственно к статистике по количеству пехотных и спешенных кавалерийских дивизий в 1916 г., представленной помесячно у генерала, а после историка Первой мировой войны А. М. Зайончковского, получается следующая картина ((надо сказать, что данные Зайончковского требуют уточнения, но все-таки это – информация, вызывающая наибольшее доверие (табл. 2)).
Таблица 2. Количество германских дивизий на Западном и Восточном фронтах с июня по сентябрь включительно 1916 г.
Источник: Зайончковский А. М. Первая мировая война. М.: Полигон, 2002.
Согласно данным из табл. 2, число германских дивизий на Западе сократилось в период с июня по сентябрь 1916 г. на три, количество германских дивизий на Восточном фронте возросло с 46 до 64, то есть на 18. Столь незначительное сокращение количества германских дивизий во время наступления Антанты на Сомме говорит в пользу нашей гипотезы, что массовой передислокации сил из Франции на Восточный фронт германским командованием не выполнялось, перебрасывались в основном дивизии, отведенные с Западного фронта в резерв на пополнение, но это уже не передислокация с другого фронта в полном смысле этого слова. Заметим, по данным Зайончковского (см. табл. 2), количество немецких дивизий на Восточном фронте в период с августа по сентябрь возросло на семь штук, вероятнее всего, одна из них прибыла из Франции, но это никак не 33 дивизии и не 400 тыс. человек.
Если посмотреть на данные, приведенные военным историком Л. В. Ветошниковым, то видно, что немцы на Западном фронте не обладали столь крупными силами, чтобы произвести переброску крупных контингентов на Восток (табл. 3).
Таблица 3. Соотношение сил на Восточном фронте в начале июня 1916 г. (количество солдат и офицеров)
Источник: Ветошников Л. В. Брусиловский прорыв: Оперативно-стратегический очерк. М., 1940.
А. А. Брусилов признавал, что проведенная им наступательная операция имела скорее тактический, нежели стратегический характер. Он также признает правоту Людендорфа в том плане, что у Германии на Восточном фронте в начале августа 1916 г. почти не было резервов. Брусилов считал, что наступление под Луцком не привело к поражению Центральных держав в войне только из-за того, что в Белоруссии оно не получило соответствующей поддержки в виде адекватного наступления войск Эверта. Немцы получили возможность перебрасывать части из Белоруссии и Литвы на помощь австрийцам, терпевшим поражение от Брусилова, когда Эверт и Куропаткин бездействовали либо проводили слабые наступательные операции.
Брусилов утверждает, что наступление в Белоруссии было начато не там, где надо. По его мнению, необходимо было наступать на Виленском направлении, а не под Барановичами, где русские войска не были достаточно подготовлены для такой операции. Брусилов считает выбор Барановичского направления для главного удара по германским силам результатом некомпетентности Эверта и Куропаткина. Впоследствии даже родился миф о том, что операция под Барановичами была придумана Григорием Распутиным и навязана Николаем II Генеральному штабу. Хотя Эверт пошел наперекор Ставке, то есть самому Николаю II, выбрав Барановичи.
Специальное исследование военного историка Оберюхтина В. И. показало ситуацию в несколько ином свете. Оберюхтин пишет: «Театр операции Западного фронта состоял из невысоких массивов с мягким дюнообразным рельефом и из обширных лесисто-болотистых пространств. Более возвышенными и доступными районами, имевшими оперативное значение, были: Молодечненский, Сморгонокревский, Новогрудковский, Скробовский, Барановичский и Даревский. Здесь, по существу, и развернулись главные события операции. Все указанные районы относились к двум операционным направлениям: Виленекому и Барановичскому. Хотя важнейшим операционным направлением и было Виленское, но главный удар Западного фронта был перенесен все же на Барановическое. Это объяснялось особой мощностью укреплений германских позиций на Виленском направлении, а равно целями большей увязки наступления Западного фронта с обозначившимися уже успешными действиями южнее Полесья Юго-Западного фронта».
Соответственно, Барановическое направление, как сообщает В. И. Оберюхтин, изначально рассматривалось Генеральным штабом как одно из возможных направлений атаки русских войск. Правда, это было вспомогательное направление, но планы изменились к середине июня, что было вызвано успехами наступления Брусилова под Луцком. Эверт решил провести свое второе наступление под Барановичами южнее, ближе к Юго-Западному фронту. И это было логично, немцы спешно перебрасывали из Белоруссии свои части на помощь австрийским союзникам, разбитым в Галиции Брусиловым. Наступление в южной Литве не смогло бы быстро отразиться на ситуации в Галиции, так как немцы передислоцировали оттуда на юг мало войск. Едва ли германское командование пожертвовало бы интересами Австрии, выход из войны которой был очень невыгоден Берлину, ради сохранения за собой Курляндии и прилегавших к ней районов.
Одним из итогов Брусиловского прорыва стали огромные потери российской армии, только на Юго-Западном фронте они составили порядка 500 тыс. убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Из-за больших потерь в период летней кампании в сентябре 1916 г. Россия уже утратила стратегическую инициативу на Германском фронте, она даже была не в состоянии выделить достаточные силы для поддержки румынского наступления, а затем и обороны Румынии. Защищать румын от 9-й армии Фалькенхайма был отправлен будущий историк Первой мировой войны генерал Зайончковский с 50 тыс. солдат и офицеров. Начальник Генерального штаба Алексеев прекрасно понимал, что такой контингент недостаточен для возложенной на него задачи, но объяснил Зайончковскому, что резервов у Ставки больше нет.
Поражение Румынии затмило все успехи России в летнем наступлении 1916 г., Германия и Австро-Венгрия захватили в этой стране большие запасы зерна и нефти, что было для них очень кстати в условиях начала голода среди городского населения. Восточный фронт удлинился. С такими военными результатами Россия вступала в революционный 1917 год.