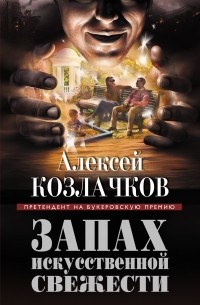Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
10
Нужно было еще по меньшей мере десять лет, которые и прошли, а знать, прошло их даже больше, чтобы Барби советского образца медленно повернулась на экране памяти ко мне лицом, и расстояние при этом сократилось примерно до пяти метров, – и у нее оказалась чудесная грудь не менее чем четвертого размера (по советской же классификации), великолепие которой подчеркивалось глубоким вырезом платья, позволяющим увидеть долгую разъединительную полосу (сколько, должно быть, стараний разместить их соответствующим образом в лифчике!), столь же лучистые, как и в юности, глаза, правда немного уменьшившиеся в размере относительно лица, что происходит практически со всеми глазами на свете: они почти никогда не увеличиваются по мере проживания; алгоритм же моргания остался прежним, и даже следы «распахнутости» были еще очень заметны (впрочем, подозреваю, что эта самая «распахнутость» есть просто специальный косметический эффект загнутых кверху, как у кукол, ресниц), следы наивности, пожалуй, – тоже просматривались, но уже появилось в глазах нечто новое, если не печаль, то, совершенно очевидно, вдумчивость в тревоги существования и еще очень ясно – точное знание собственной цены. Кроме того, я впервые узнал о наличии у нее шеи, которая была не менее прекрасна, чем остальные фрагменты организма моей первой возлюбленной, но прежде ее закрывали распущенные волосы, которые ныне были забраны в тяжелый не тугой узел, и красота этих волос в узле поразила меня до головокружения и желания немедленно закурить. Вместе с шеей, совершенно новой чертой ее облика, еще был небольшой двойной подбородочек, который ее совсем не портил, а был еще в той начальной стадии разрастания, когда он лишь украшает облик зрелой женщины; и еще были полновесные и полнокруглые бедра, сочетавшиеся с невероятным образом оставшейся тонкой талией, – и если взглядом скользнуть от нее вверх, то узость талии подготавливала неожиданность впечатления от груди – оно было столь же убийственным, как в юности от ее «распахнутых» глаз, только тогда это было воздействие свежести и полудетской-полуангельской прелести, а здесь – совершенной женственности, распирающей корсеты плоти, словно это была сама аллегория чувственности. Стоило ей, поведя плечами, сообщить великолепной груди легкое колыхание, как все мужчины, в поле зрения которых она оказалась или смотрящие на нее в подзорную трубу, должны были бы падать замертво от резкого гормоноизлияния в мозг.
Мне захотелось уже не только закурить, но и моментально напиться от тоски и не-тебе-принадлежности всего этого, а еще точнее – от когда-то упущенной возможности того, чтобы все это принадлежало сейчас именно мне. Я быстро сделал несколько рефлекторных глотательных движений подряд… Эх, дурак же я был некогда…
Так мы и встретились с ней – случайно, в электричке рязанского направления, идущей от Москвы. Я к этому времени вернулся домой после десятка лет скитаний и испытаний себя и сделался запоздалым студентом гуманитарного института, начав вести совершенно иную жизнь – простую, бедную и книжную, с ежедневной ездой из пригорода в Москву для учебы. И вот однажды, возвращаясь из института в конце месяца мая, я был озабочен экзаменами и сидел, опустив нос в книгу, допустим, с каким-нибудь Джойсом или того хуже – Гомером, а когда взгляд оторвался от страницы, то он наткнулся на эту самую грудь, которая притягивала любой взгляд окрест и которая размещалась, слава богу, не ровно напротив, а наискосок через проход, да еще и через лавочную секцию – расстояние достаточное, чтобы притягательность объекта не потеряла силы, но и для того, чтобы не встречаться взглядом с глазами над грудью, если не захочется. Ей, видимо, и не хотелось, поскольку она явно убирала свои глаза, когда я, взглянув выше полушарий, почти с ужасом обнаружил во владелице этой выдающейся плоти свою первую любовь и попытался организовать встречу взглядов…
Вот и уткнись так в случайную грудь в электричке! Безопасней для самочувствия было уткнуться в пасть злой собаки или в бригаду контролеров, будь я безбилетником.
А когда электричка трогалась и набирала скорость или когда притормаживала перед остановками – чудесная грудь четвертого размера в глубоком вырезе летнего платья отвечала ей продолжительным колыханьем. И каждому случайно нашедшему ее глазами становилось совершенно очевидно, что в этой пригородной электричке рязанского направления происходит лишь одно событие, сопоставимое (в контексте вечности) с шелестеньем свежей листвы за окном, – это колыханье груди не менее чем четвертого, повторяю, размера в глубоком вырезе летнего платья моей бывшей возлюбленной, не обращавшей на меня ровно никакого внимания!
А все остальные – пассажиры, попутчики, путешественники, ездоки, да и просто дураки дурацкие, включая меня, – лишь допущены о сем свидетельствовать и запомнить это на всю жизнь. А кто по какой-то причине ничего не заметил, тот тем более дурак. Ведь это колыханье по своему экзистенциальному напряжению сопоставимо лишь с так называемым «просовыванием», а то и превосходит его. Нет, даже точно превосходит, причем существенно…
Она поднялась на выход за две примерно остановки до моей, а это могло означать лишь одно – она жила не на прежнем месте и, стало быть, была уже замужем (в России той поры незамужние девушки редко меняли местожительство, да и трудно было ожидать ее незамужности при таких внешних данных). Грудь ее в последний раз глубоко колыхнулась, мягкие шары перекатились в своем ложе, и на них отразились солнечные блики и перекладина оконного стекла электрички; а затем, опустив глаза, чтобы не встретиться с моими (и это лишь подтвердило, что она меня заметила и узнала), медленным поворотом плеч она извлекла свою волшебную стать и плоть из поля моего зрения на следующие десять лет, но намертво вморозила их в мою память. И все эти годы, прошедшие без встреч и даже сожалений о ней (слишком много всего произошло и со мною, и со страной, где я прежде жил), если я случайно вспоминал ее, то после секундного промелька кадра, на котором от меня удалялась, пружиня, угловатая девочка-подросток, тотчас же на экран вываливалась полновесная роскошь ее бюста в цветном изображении, исчирканная перекладинами и бликами от окна, и уже не отступала, пока памяти было угодно возвращаться к этой женщине хоть иногда. Именно эта мягкая тяжесть слегка запотевших от тесноты корсета шаров из электрички рязанского направления, следующей от Москвы со всеми остановками где-то в конце 80-х, тотчас же и выступила перед моим затуманенным портвейном мысленным взором в конце апреля 2002 года, как только она назвала свое имя во время звонка в редакцию и обеспечила тем самым моментальный приток тепла во все мои органы. А наутро, пия аспирин после выдающихся вливаний портвейна, произошедших и от праздника, и от неожиданного волнения, я пытался в виде какого-то эксперимента осуществить просмотр более ранней версии изображения моей памяти – с девочкой-подростком, но – тщетно, сплошное удушливое култыханье этой проклятой груди заслоняло все на свете. Ранняя версия оказалась надежно стерта десять лет назад – в электричке.
И эта картинка тогда же сделалась одним из самых чувственных образов моей жизни, пугающих своей мистической неотвязностью и «слепыми наплываниями». Правда, если на Набокова «слепо наплывала» Россия, то на меня только ее красота. Каждому свое.
Но и этот образ приговорен был погаснуть.