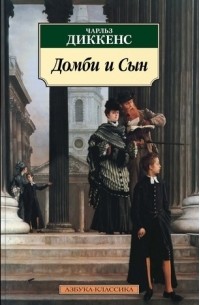Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава XXXIV. Еще мать и дочь
Въ грязной и мрачной лачугѣ сидитъ грязная и мрачная старуха. Она прислушивается къ завывапію вѣтра, къ дождевымъ каплямъ и, корчась въ три погибели, разгребаетъ жалкій огонь въ жалкомъ каминѣ. Какъ скоро дождевая капля, пробиваясь черезъ дырявую кровлю, падаетъ и шипитъ на потухающемъ углѣ, старуха вздрагиваетъ, вздергиваетъ голову и потомъ опять опускаетъ ее ниже и ниже вплоть до пожелтѣвшаго костляваго остова груди.
Нѣтъ въ избушкѣ ни одной свѣчи, и только догорѣвшее полѣно изъ камина проливаетъ тусклый свѣтъ на окружающіе предметы. Кучи лохмотьевъ, кучи костей, жалкая постель, два, три изуродованныхъ табурета, двѣ-три хромыя скамейки, черныя стѣны, черный потолокъ, – вотъ все, на что выглядывалъ догоравшій огонь, похожій на глазъ дикаго полууснувшаго звѣря. Съежившись передъ огнемъ грязнаго, разваливающагося камина, старуха сидѣла молча, протянувъ грязныя ноги на грязный половикъ и пялила тусклыя буркулы, какъ вѣдьма, готовая черезъ минуту, черезъ двѣ, выскочить въ трубу на шабашъ чертей, изъ которыхъ одинъ уже выставлялся въ половину на стѣнѣ, въ половину на потолкѣ, выдѣлывая страшныя гримасы и дожидаясь, по-видимому, чтобы открыть сатанинскую вечеринку адскимъ вальсомъ вельзевулова изобрѣтенія.
Но это былъ не чортъ. Въ его подобіи обрисовывалась только гигантская тѣнь гадкой вѣдьмы, чавкающей съ неутомимою дѣятельностью. Если бы Флоренса какимъ-нибудь случаемъ очутилась въ этой берлогѣ и взглянула на оригиналъ чудовищной тѣни, она мигомъ и безъ всякаго затрудненія угадала бы въ немъ фигуру доброй бабушки Браунъ, несмотря на то, что ея дѣтское воспоминаніе объ ужасной старухѣ было, можетъ быть, столь же преувеличеннымъ представленіемъ истины, какъ и отраженіе тѣни на стѣнѣ и потолкѣ. Но Флоренса не приходила, не заглядывала, и м-съ Браунъ, не угаданная никѣмъ, спокойно засѣдала подлѣ дымившейся головешки.
Дождевыя капли полились сильнѣе, но уже не въ печь. Старуха быстро подняла голову и начала прислушиваться. Чья-то рука ухватилась за дверь, и въ комнатѣ послышались шаги.
– Кто тамъ? – спросила старуха, озираясь черезъ плечо.
– Добрый человѣкъ съ добрыми вѣстями.
– Съ добрыми вѣстями? Откуда?
– Изъ чужихъ краевъ.
– Изъ-за моря? – крикнула старуха, вставая съ мѣста.
– Да, изъ-за моря.
Старуха поспѣшно подгребла уголья и подошла къ вошедшей фигурѣ, которая между тѣмъ затворила дверь и остановилась среди комнаты. Быстро опустивъ руку на ея промокшій капотъ и поворотивъ ее къ огню, чтобы разглядѣть, старуха испустила жалобный вой, обличавшій ея обманутую надежду.
– Что съ тобою? – спросила фигура.
– У! У! – вопила вѣдьма, закинувъ голову назадъ.
– Да что съ тобою?
– Охъ! охъ! нѣтъ моей дѣвки, – завизжала м-съ Браунъ, вздергивая плечами и закинувъ руки на затылокъ, – гдѣ моя Алиса? гдѣ моя красная дочка? Они задушили ее!
– Не задушили, если твое имя – Марвудъ.
– Видала ли ты мою дѣвку, а? Видала ли ты мою красотку, ась? Нѣтъ ли отъ нея грамотки?
– Она сказала, что ты не умѣешь читать.
– И то правда, не умѣю. Да, не умѣю, дьяволъ меня побери, – визжала старуха, ломая себѣ руки.
– Что ты не зажжешь свѣчи? – спросила фигура, осматриваясь вокругъ комнаты.
Старуха зачавкала, замямлила, замотала головой, вынула изъ шкапа сальный огарокъ, всунула дрожащею рукою въ печь, затеплила кое-какъ и поставила на столъ. Грязная свѣтильня горѣла сперва тускло, такъ какъ сало заливало фитиль, и прежде, чѣмъ слѣпоглазая бабушка могла различить что-нибудь съ нѣкоторою ясностью, фигура сѣла на скамейку, сложила руки на груди, опустила глаза въ землю и, сорвавъ съ головы грязную косынку, положила ее на столъ подлѣ себя. Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе съ обѣихъ сторонъ.
– Стало быть, моя красотка велѣла тебѣ сказать что-нибудь на словахъ? Что же ты не говоришь? Ну, что она сказала?
– Взгляни, – отвѣчала фигура.
Повторивъ это слово съ испуганнымъ видомъ, старуха посмотрѣла на собесѣдницу, на стѣны, на потолокъ и опять на собесѣдницу.
Алиса сказала: взгляни еще, матушка!
Старуха опять оглянулась вокругъ комнаты съ величайшимъ вниманіемъ и вдругъ, выпучивъ глаза на загадочную незнакомку, испустила пронзительный крикъ и бросилась къ ней на шею.
– Ты ли это, моя дѣвка, моя Алиса? Дочка моя, красотка моя! Живехонька! здоровехонька! опять воротилась къ своей матери!
И, повиснувъ на груди этой женщины, старуха перекачивалась изъ стороны въ сторону, не замѣчая, что ласки ея принимаются холодно и неохотно!
– Дѣвка моя! Алисушка! красотка моя! куколка ненаглядная! опять ты здѣсь, въ родномъ гнѣздѣ!
Бросившись на полъ, она положила голову на колѣни своей дочери, обвивъ ея станъ костлявыми руками, и опять начала перекачиваться изъ стороны въ сторону съ неистовымъ обнаруженіемъ всѣхъ жизненныхъ силъ, какія въ ней оставались.
– Да, матушка, – отвѣчала Алиса, поцѣловавъ мать и стараясь, однако же, высвободиться изъ ея объятій, – я здѣсь, наконецъ, въ родномъ гнѣздѣ. Пусти меня, матушка, пусти. Вставай и садись на стулъ. Что за нѣжности? Отойди, говорю тебѣ.
– Она воротилась еще суровѣй, чѣмъ ушла! – закричала мать, выпучивъ глаза на ея лицо и продолжая держаться за ея колѣни, – она не заботится обо мнѣ! Столько лѣтъ я сиротѣла и вела каторжную жизнь, a она и смотрѣть не хочетъ.
– Что ты хочешь сказать, матушка? – возразила Алиса, отодвигая ноги, чтобы удалить привязчивую старуху, – сиротѣла не одна ты, и каторга была не для тебя одной. Вставай и садись на стулъ.
Старуха встала, всплеснула руками, завизжала и остановилась съ выпученными глазами въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дочери. Потомъ, взявъ свѣчу, она обошла ее кругомъ, осматривая съ ногъ до головы съ болѣзненными стонами и дикими тѣлодвиженіями. Затѣмъ она сѣла на стулъ, захлопала руками, закачалась во всѣ стороны и застонала еще страшнѣе.
Не обращая никакого вниманія на горькія жалобы старухи, Алиса скинула мокрый капотъ, оправила платье и опять усѣлась на прежнемъ мѣстѣ, скрестивъ руки на груди и обративъ глаза на каминъ. Старуха продолжала бѣсноваться.
– Неужели ты ожидала, матушка, что я ворочусь такойже молодой, какой уѣхала отсюда? – начала дочь, обративъ глаза на старуху, – неужели думала ты, что жизнь, какую вела я тамъ, за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ, могла меня разнѣжить и приготовить къ чувствительнымъ свиданіямъ? Право, слушая тебя, подумаешь, что все это такъ.
– Не то, не то! – вскричала мать, – она знаетъ это.
– Что же это такое? – возразила дочь, – въ сторону всѣ эти намеки, или мнѣ право не трудно будетъ убраться къ чорту на кулички.
– Вотъ она! вотъ она! Ой, ой, ой! Послѣ столькихъ лѣтъ разлуки она грозитъ опять покинуть меня! Ой!
– Еще разъ скажу тебѣ, матушка, въ разлукѣ жила не одна ты, – продолжала Алиса, – воротилась суровѣе, говоришь ты? a ты чего ожидала?
– Суровѣе ко мнѣ! къ своей собственной матери!
– A кто, какъ не собственная мать причиной этой суровости? – возразила Алиса, скрестивъ руки и нахмуривъ брови, какъ будто рѣшилась подавить въ грѵди всякое нѣжное чувство, два, три слова, матушка. Если мы теперь понимаемъ другъ друга, намъ не къ чему заводить ссоры. Я уѣхала дѣвченкой и воротилась женщиной. Я уѣхала непокорною дочерью и воротилась назадъ ничѣмъ не лучше; къ этому ты должна быть приготовлена. Я не исполняла въ ту пору своихъ обязанностей, надѣюсь не исполнять ихъ и теперь. Но дѣло вотъ въ чемъ: развѣ ты исполняла свои обязанности по отношенію ко мнѣ?
– Я? – завопила старуха, – обязанности къ своей дѣвкѣ? Обязанности матери къ собственному дѣтищу!
– Что? развѣ это деретъ твои уши, матушка? – возразила дочь, обративъ на нее холодное и суровое лицо, – я объ этомъ надумалась вдоволь на чужой сторонѣ. Съ младенчества и до сихъ поръ мнѣ продолбили уши о моихъ обязанностяхъ къ людямъ; но никому ни разу не приходило въ голову заикнуться объ обязанностяхъ другихъ людей въ отношеніи ко мнѣ. Это меня удивляло и удивляетъ.
Старуха зачавкала, замямлила, замотала головой, но, навѣрно, никакъ нельзя было узнать, какой смыслъ имѣли эти гримасы. Можетъ, она сердилась, чувствовала угрызенія совѣсти, дѣлала возраженія, а, можетъ, просто все это было дѣйствіемъ старческой немощи.
– Жила была, – начала дочь съ дикимъ смѣхомъ и опустивъ глаза въ землю съ очевиднымъ презрѣніемъ и ненавистью къ себѣ самой, – жила была маленькая дѣвочка по имени Алиса Марвудъ. Она родилась въ нищетѣ, вскормлена въ нищетѣ, выросла въ нищетѣ. Ничему ее не учили, ни къ чему не приготовляли, и никто о ней не заботился.
– Никто! – завопила мать, указывая на самое себя и ударяя себя въ грудь.
– Ее ругали, колотили, какъ собаку, морили голодомъ, знобили холодомъ, – вотъ и всѣ заботы о ней. Другихъ – не знала маленькая дѣвочка, Алиса Марвудъ. Такъ жила она дома, такъ слонялась и по улицамъ съ толпою другихъ нищихъ бродягъ. И между тѣмъ выростала дѣвочка Алиса, выростала и хорошѣла съ каждымъ днемъ. Тѣмъ хуже для нея. Было бы гораздо лучше, если бы ее заколотили до смерти.
– Ну, ну! Еще что?
– A вотъ сейчасъ увидишь. Были цвѣтики, будутъ и ягодки. Чѣмъ больше выростала Алиса Марвудъ, тѣмъ больше хорошѣла и обѣщала сдѣлаться красавицей первѣйшаго сорта. Поздно ее начали учить – и выучили всему дурному. За ней ухаживали, присматривали и въ короткое время выдрессировали ее на всѣ манеры. Тогда была ты, матушка, не такъ бѣдна и очень любила свою дочь. Съ дѣвочкой повторилась та же исторія, какая повторяется двадцать тысячъ лѣтъ. Она родилась на погибель и – погибла!
– Послѣ такой разлуки! – хныкала старуха, – вотъ чѣмъ начинаетъ моя дѣвка!
– Она скоро окончитъ, матушка. Пѣсня коротка. Была преступница по имени Алиса Марвудъ, еще дѣвочка, но заброшенная и отверженная. И повели ее въ судъ, и судили ее, и присудили. Какъ сейчасъ вижу строгихъ джентльменовъ, которые разговаривали въ судѣ. Какъ складно и умильно разсуждалъ предсѣдатель о ея обязанностяхъ, и о томъ, что она попрала въ себѣ божественные дары природы, и о томъ, что она должна лобызать карающую руку закона, и о томъ, что добродѣтель всегда и вездѣ получаетъ достойную награду, a порокъ – достойное возмездіе! Какъ будто не зналъ благочестивый джентльменъ, что этотъ же законъ, не принявшій во время надежныхъ средствъ спасти невинное созданіе, обрекалъ теперь несчастную жертву на неизбѣжную гибель! Какъ будто не вѣдалъ онъ, праведный судія, что пустозвонное краснобайство не спасло и не спасетъ ни одной жертвы, увлеченной нищетою въ бездну разврата!
Алису Марвудъ приговорили къ ссылкѣ и отправили на тотъ конецъ свѣта. Она должна была, по опредѣленію закона, учиться обязанностямъ въ такомъ обществѣ, гдѣ не знаютъ никакихъ обязанностей, и гдѣ въ тысячу разъ больше всякаго порока и разврата, чѣмъ на ея родинѣ. И Алиса Марвудъ воротилась женщиной, такой женщиной, какою слѣдуетъ ей быть послѣ всѣхъ этихъ уроковъ. Придетъ пора, и конечно, скоро, когда опять поведутъ ее на судъ, и опять услышитъ она благочестиваго краснобая, который еще съ большимъ жаромъ и съ большею торжественностью станетъ разсуждать о добродѣтепяхъ и порокахъ и о возмездіи закона. Тогда не станетъ больше Алисы Марвудъ, но съ ея позоромъ и смертью благочестивые джентльмены не потеряютъ работы. Свѣжія толпы преступниковъ и преступницъ, мальчиковъ и дѣвочекъ, вскормленныхъ въ нищетѣ, взлелѣянныхъ развратомъ, не замедлятъ явиться предъ ихъ свѣтлыми очами, и славный кусокъ хлѣба заработаютъ джентльмены, краснобайствующіе о прелестяхъ добродѣтели, объ ужасахъ порока!
Старуха облокотилась на столъ и, закрывъ лицо обѣими руками, притворилась чрезвычайно растроганной, a можетъ быть, она и не притворялась.
– Кончено, матушка. Я все сказала. Теперь, надѣюсь, ты не заикнешься о моихъ обязанностяхъ къ тебѣ. Твоя молодость, конечно, прошла такъ же, какъ и моя. Тѣмъ хуже для насъ обѣихъ. Не буду ни упрекать тебя, ни оправдывать себя. Къ чему? зачѣмъ? Все рѣшено и покончено давнымъ давно. Я не дитя, и ты не сестра благочестиваго краснобая, засѣдающаго въ судѣ. Дѣлить намъ нечего, и авось ты не станешь переливать изъ пустого въ порожнее. Мы довольно знаемъ другъ друга.
И, однако, при всемъ униженіи она была красавицей въ полномъ смыслѣ этого слова. Самый поверхностный наблюдатель не могъ не замѣтить изящества и рѣдкой правильности ея формъ даже въ минуты бѣшеной злобы, исказившей черты ея лица; когда, наконецъ, это лицо успокоилось, и въ прекрасныхъ черныхъ глазахъ, обращенныхъ на огонь, заискрилось чувство грусти, ея фигура, измученная и усталая, представляла совершеннѣйшее подобіе падшаго ангела, осужденнаго на безконечныя страданія въ юдоли плача и скорбей.
Нѣсколько минутъ длилось молчаніе съ обѣихъ сторонъ. Старуха, любовавшаяся исподтишка на свою дочь, осмѣлилась протянуть къ ней черезъ столъ свою руку и, не встрѣчая сопротивленія, прикоснулась къ ея лицу и начала разглаживать волосы. Алиса не сдѣлала никакого движенія. Ободренная этимъ спокойствіемъ, старуха стремительно подбѣжала къ ней, скинула ея башмаки и набросила на ея плечи какое-то подобіе сухого платья. Во все это время она бормотала безсвязныя ласки и съ напряженнымъ вниманіемъ всматривалась въ черты ея лица.
– Ты очень бѣдна, матушка? – спросила Алиса, осматривая жалкую избенку.
– Горько бѣдна, мое дитятко.
На лицѣ старухи выразился какой-то неопредѣленный испугъ. Быть можетъ, любуясь дочерью, она припомнила одну изъ ужасныхъ сценъ, какія должны были повторяться часто въ ея борьбѣ съ отвратительной нищетой, или, можетъ быть, ее взволновало опасеніе за будущую судьбу воротившейся дочери. Какъ бы то ни было, старуха остановилась передъ Алисой съ самымъ покорнымъ видомъ, опустила голову и какъ-будто умоляла о пощадѣ.
– Чѣмъ ты живешь, матушка?
– Милостыней, мое дитятко.
– И воровствомъ?
– Да, по-временамъ и воровствомъ, да только ужъ какое мое воровство? Я стара, хила и начинаю всего бояться. Бездѣлку какую-нибудь съ мальчишки или дѣвченки, и то все рѣже и рѣже. A вотъ я недавно слонялась за городомъ, лебедушка моя, и подмѣтила недурную поживу. Я караулила.
– Караулила?
– Я не спускала глазъ съ одной семьи, мое дитятко, – продолжала старуха умоляющимъ тономъ, предупреждая возраженіе и упреки.
– Съ какой семьи?
– Тс!.. Не сердись на меня, лебедушка. Я это дѣлала изъ любви къ тебѣ, поминая свою заморскую красотку.
Старуха взяла и поцѣловала ея руку. Въ глазахъ ея опять выразилась просьба о пощадѣ.
– Это было давненько, мое дитятко: я пробиралась за угломъ и тутъ мнѣ удалось заманить къ себѣ его маленькую дочь.
– Чью дочь?
– Не его, Алиса, не его. Что ты на меня такъ сердито смотришь? Право не его. Это не можетъ быть.
– Чью же? Ты сказала, его дочь.
– Да не кричи такъ громко. Ты пугаешь меня, касатушка. Дочь м-ра Домби, только м-ра Домби. Съ той поры я видала ихъ сплошь да рядомъ. Я видала и е_г_о.
При послѣднемъ словѣ старуха съежилась и отпрянула назадъ, какъ будто боялась взрыва ярости въ своей дочери. Но хотя лицо Алисы, постоянно обращенное на мать, выражало сильнѣйшее негодованіе однако она не тронулась съ мѣста, только кулаки ея тѣснѣе прижались къ груди, какъ-будто она хотѣла этимъ удержать ихъ отъ нападенія при внезапной злости, которая ею овладѣла.
– Какъ мало онъ думалъ, кого видѣлъ передъ собой! – взвизгнула старуха, подымая сжатые кулаки.
– И какъ мало онъ объ этомъ заботился! – проворчала Алиса сквозь зубы.
– A мы стояли съ нимъ лицомъ къ лицу. Я разговаривала, и онъ разговаривалъ. Я сидѣла и караулила, когда онъ ходилъ въ рощѣ между деревьями. При каждомъ шагѣ я посылала ему вслѣдъ тысячи чертей и проклинала его на всѣ корки.
– Большое ему дѣло до твоего проклятья! Онъ, я думаю, живетъ себѣ припѣваючи.
– Да, ему ни чорта не дѣлается…
Старуха остановилась, такъ какъ лицо и вся фигура ея дочери исказились страшнымъ образомъ. Казалось, ея грудь хотѣла лопнуть отъ напряженій подавляемой злобы. Ея усилія задушить въ себѣ эту бурю были столь же страшны, какъ и самая ярость. Однако, ей удалось преодолѣть себя, и послѣ минутнаго молчанія она спросила:
– Онъ женатъ?
– Нѣтъ, лебедушка.
– Женится, можетъ быть?
– Не знаю, a кажись, что нѣтъ. Но его начальникъ и пріятель женится, и вотъ гдѣ мы поздравимъ его такъ, что самъ дьяволъ въ присядку запляшетъ предъ его глазами!
Старуха кричала и прыгала, какъ вѣдьма въ полномъ разгарѣ сатанинской вечеринки.
– Мы натѣшимся, говорю тебѣ, по горло, и эта женитьба отзовется ему на томъ свѣтѣ. Помяни мое слово.
Дочь бросила на нее вопросительный взглядъ.
– Но ты измокла, моя касатка, устала, какъ собака, и проголодалась, какъ волчица. Чѣмъ бы тебя накормить и напоить?
Старуха бросилась къ шкафу и, вытащивъ нѣсколько полупенсовъ, звякнула ими объ столъ.
– Вотъ моя казна, вся тутъ, и больше – ничего. У тебя нѣтъ деньженокъ, Алиса?
Невозможно описать, какою жадностью наполнились глаза старухи, когда дочь полѣзла за пазуху за полученнымъ подаркомъ.
– Все?
– Ничего больше. И это подано изъ состраданья.
– Изъ состраданья – эхва? – завизжала старуха, впиваясь въ серебряную монету, которая, къ ея отчаянію, все еще была въ рукахъ ея дочери. – Нутка, посчитаемъ. Шесть да шесть – двѣнадцать, да еще шесть восемнадцать. Такъ! Теперь распорядимся на славу. Сейчасъ побѣгу за хлѣбомъ и водкой.
И съ проворствомъ, необыкновеннымъ въ дряхлой старухѣ, она напялила дрожащими руками дырявую шляпу и накрылась шалью. Монета, къ ея отчаянію, все еще была въ рукахъ Алисы.
– Какая же намъ потѣха отъ этой женитьбы? Ты еще не сказала, матушка.
– Да ужъ будетъ потѣха, – отвѣчала мать, про должая возиться около лохмотьевъ, – потѣха отъ гордости, отъ ненависти, и ужъ никакъ не отъ любви, – потѣха отъ ссоры этихъ гордецовъ и отъ опасности… отъ опасности, Алиса.
– Отъ какой же?
– Увидишь, a покамѣстъ помалчивай. Я знаю, что знаю. Не худо бы имъ оглядѣться и держать ухо востро. A ужъ моя дѣвка найдетъ себѣ мѣстечко, – ухъ! – какое мѣстечко!
И улучивъ минуту, когда дочь, занятая размышленіемъ, разжала руку, гдѣ хранилась серебряная монета, старуха мгновенно ее выхватила и скороговоркой продолжала:
– Побѣгу, моя касатка, побѣгу за хлѣбомъ и за водкой. Славно поужинаемъ.
Говоря это, она перебрасывала деньги съ руки на руку. Алиса взяла назадъ свою монету и прижала ее къ губамъ.
– Что ты, Алиса? цѣлуешь монету? Это похоже на меня. Я часто цѣлую деньги. Онѣ къ намъ милостивы во всемъ, да только жаль, что не кучами приходятъ.
– Не припомню, матушка, чтобы я прежде когда это дѣлала. Теперь цѣлую эту монету изъ воспоминанія объ особѣ, которая подарила мнѣ ее.
– Вотъ что! Ну, пожалуй, и я ее поцѣлую, a надо ее истратить. Я мигомъ ворочусь.
– Ты, кажется, сказала, матушка, что знаешь очень много, – проговорила дочь, провожая ее глазами къ дверямъ. – Видно безъ меня ты поумнѣла!
– Да, моя красотка, – отвѣчала старуха, обернувшись назадъ. – Я знаю гораздо больше, чѣмъ ты думаешь. Я знаю больше, чѣмъ онъ думаетъ. Я изучила его насквозь.
Дочь недовѣрчиво улыбнулась.
– Я даже знаю всю подноготную объ его братѣ, Алиса, – продолжала старуха, вытягивая шею и дѣлая отвратительныя гримасы. – Этотъ братецъ, видишь ты, могъ бы за покражу денегъ отправиться туда, гдѣ и ты проживала. Онъ живетъ съ сестрой, вонъ тамъ, за Лондономъ, подлѣ Сѣверной дороги.
– Гдѣ?
– За Лондономъ, подлѣ Сѣверной дороги. Я тебѣ покажу, если хочешь. Домишко дрянной, ты увидишь. Да нѣтъ, нѣтъ, не теперь, – завизжала старуха, увидѣвъ, что дочь вскочила съ мѣста, – не теперь. Вѣдь это далеко отсюда, около мили, a пожалуй, что и больше. Завтра поутру, если захочешь, пожалуй, я тебя поведу. Пора за ужиномъ…
– Стой! – закричала дочь, ухватившись за старуху, которая уже собиралась юркнуть изъ комнаты. – Сестра хороша какъ демонъ, и y ней каштановые волосы?
Озадаченная старуха утвердительно кивнула головой.
– Я вижу тѣнь его самого на ея рожѣ! Красный домишко на пустырѣ стоитъ на юру? Небольшой зеленый подъѣздъ?
Старуха опять кивнула головой.
– Сегодня я была тамъ! Отдай монету назадъ!
– Алиса! касатушка!
– Отдай, говорю тебѣ, нето я тебя задушу.
Вырвавъ моиету изъ рукъ старухи, испускавшей жалобный вой, Алиса одѣлась на скорую руку въ капотъ и сломя голову бросилась изъ избы.
Прихрамывая и припрыгивая, мать побѣжала за дочерью изо всѣхъ силъ, оглашая воздухъ безполезными жалобами. Непреклонная въ своемъ намѣреніи и равнодушная ко всему остальному, дочь, не обращая ни малѣйшаго вниманія на бурю съ проливнымъ дождемъ, продолжала бѣжать впередъ по направленію къ дому, въ которомъ отдыхала. Черезъ четверть часа ходьбы, старуха, выбившись изъ силъ, настигла свою дочь, и онѣ обѣ молча пошли рядомъ. Старуха не смѣла больше жаловаться.
Въ часъ, или около полночи, мать и дочь оставили за собой правильныя улицы и вошли на пустырь, гдѣ стоялъ уединенный домикъ. Вѣтеръ не стѣсняемый городскими зданіями, завывалъ теперь на привольѣ и продувалъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Все вокрутъ нихъ было мрачно, дико, пусто.
– Вотъ удобнѣйшее для меня мѣсто! – сказала дочь, пріостанавливаясь на минуту и оглядываясь назадъ. – Я и давеча такъ думала, когда была здѣсь.
– Не отдавай назадъ монету, Алиса, сдѣлай милость! Какъ намъ обойтись безъ нея? Вѣдь намъ нечего ужинать? Деньги – всегда деньги, кто бы ихъ ни далъ. Ругай ее сколько душѣ угодно, только монету пожалуйста не отдавай.
– Постой-ка, кажется, этотъ домъ ихъ? Такъ, что-ли?
Старуха утвердительно кивнула головой. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онѣ подошли къ дверямъ. Въ комнатѣ, гдѣ сидѣла Алиса, свѣтился огонекъ. Онѣ стукнули, и черезъ минуту явился Джонъ Каркеръ со свѣчею въ рукѣ.
Озадаченный страннымъ визитомъ въ такой поздній часъ, Джонъ Каркеръ, обращаясь къ Алисѣ, спросилъ, что ей нужно.
– Видѣть вашу сестру – скороговоркой отвѣчала Алиса, – женщину, которая сегодня дала мнѣ денегъ.
Услышавъ громкій голосъ, Герріэтъ вышла изъ дверей.
– А! ты здѣсь голубушка! Узнаешь ты меня?
– Да, – отвѣчала изумленная Герріэ;тъ.
Лицо, которое такъ недавно смотрѣло на нее съ любовью и благодарностью, пылало теперь непримиримою ненавистью и злобой; рука, обвивавшаяся вокрутъ ея стана съ кроткою нѣжностью, держала теперь сжатый кулакъ, и бѣшеная фурія, казалось, готова была задушить свою жертву. Герріэтъ, по невольному инстинкту самосохраненія, ближе придвинулась къ брату.
– Чего ты хочешь? Что я тебѣ сдѣлала?
– Что ты мнѣ сдѣлала? Ты пригрѣла меня y камина, напоила меня, накормила и на дорогу дала мнѣ денегъ. Ты облагодѣтельствовала меня и… я плюю на твое имя!
Подражая своей дочери, старуха тоже сжала руку въ кулакъ и погрозилась на брата и сестру; но вслѣдъ за тѣмъ она дернула за подолъ Алису и шепнула, чтобы та не отдавала монету.
– Если моя слеза капнула на твою руку, пусть она отсохнетъ! Если я прошептала ласковое слово, пустъ оглохнетъ твое ухо! Если я коснулась твоихъ губъ, пусть это прикосновеніе будетъ для тебя отравой! Проклятіе на домъ, гдѣ я отдыхала! Стыдъ и позоръ на твою голову! Проклятіе на все, что тебя окружаетъ!
Выговоривъ послѣднія слова, она бросила монету на полъ и пришлепнула ее ногою.
– Пусть обратятся въ прахъ твои деньги! Не надо мнѣ ни за какія блага, ни за царство небесное! Я бы скорѣе оторвала свою израненную ногу, чѣмъ осушила ее въ твоемъ проклятомъ домѣ!
Герріэтъ, блѣдная и трепещущая, удерживала брата, a бѣшеная фурія продолжала безъ перерыва:
– Ты сжалилась надо мной и простила меня въ первый часъ моего возвращенія? Хорошо! Ты разыграла передо мной добродѣтельную женщину? Хорошо! Я поблагодарю тебя на смертномъ одрѣ, я помолюсь за тебя, за весь твой родъ, за все твое племя! Будь въ этомъ увѣрена!
И сдѣлавъ гордый жестъ, какъ будто грозившій уничтоженіемъ предметовъ ея ярости, она подняла голову вверхъ и скрылась за дверьми во мракѣ бурной ночи.
Старуха еще разъ съ отчаяннымъ усиліемъ уцѣпилась за ея подолъ и принялась отыскивать на порогѣ монету съ такою жадностью, которая поглотила всѣ ея способности. Напрасно. Дочь сильнымъ движеніемъ руки поволокла ее за собой, и онѣ опять понеслись черезъ пустырь къ своему жилищу, въ глухой закоулокъ безконечнаго города, который теперь совсѣмъ исчезалъ отъ глазъ въ непроницаемомъ туманѣ. Мать во всю дорогу охала, хныкала, стонала и упрекала, сколько могла, свою непокорную дочь: изъ-за ея упрямства онѣ теперь должны были остаться безъ хлѣба и водки въ первую ночь послѣ двѣнадцатилѣтней разлуки!
Уже давно непокорная дочь храпѣла на своей постели, a ея мать еще сидѣла передъ огнемъ и глодала черствую корку хлѣба.