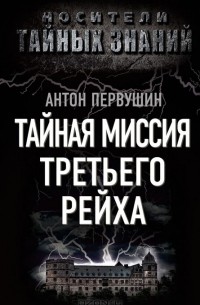Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 4 Конструкторы будущего
4.1. Точки опоры
Итак, в 1923 году Адольф Гитлер и его партия потерпели серьезное поражение. Блиц-революция не удалась.
Для Гитлера, окруженного такими же фанатиками национальной империи, как и он сам, стало откровением, что далеко не все немцы жаждут пришествия вождя, который поведет их на борьбу с демократией и мировым еврейством. Потрясение оказалось столь сильным, что Гитлер подумывал о самоубийстве и во время следствия отказывался давать показания. Однако ход судебного процесса над путчистами дал Гитлеру возможность надеяться на поддержку его политических устремлений. Те, кто должен был покарать изменников, решившихся на мятеж против властей, проявили невиданную снисходительность, позволив участникам «пивного путча» использовать судебные заседания с большой выгодой для пропаганды националистических воззрений. Суд разрешал им выступать так долго, как им заблагорассудится (к примеру, первое выступление Гитлера длилось четыре часа), причем речи на следующее утро публиковались в газетах, а затем выходили отдельными изданиями. Подсудимые и их адвокаты беспрепятственно поносили существовавшую в Германии власть и ее представителей.
«Судебное заседание? – спрашивал демократически настроенный журналист, присутствовавший на процессе. – Нет, скорее семинар по вопросу о государственной измене».
Другой журналист, находившийся в зале, писал о процессе так:
«Суд, снова и снова позволяющий "господам обвиняемым" держать многочасовые пропагандистские речи; член суда, который после первой речи Гитлера (я слыхал это собственными ушами!) воскликнул: "Он же первоклассный парень, этот Гитлер!"; председатель, терпящий, что <…> правительство характеризуют как "банду преступников"; прокурор, который во время перерыва доверительно хлопает одного из обвиняемых по плечу…»
Адвокаты нагло угрожали даже официальным обвинителям. Еще более неприкрытыми были угрозы по адресу свидетелей обвинения.
В своей речи прокурор утверждал, что путчисты преследовали «высокую цель», лишь использованные ими средства были преступны. Он напоминал, что Гитлер происходит «из простой семьи» и во время мировой войны «доказал немецкий образ мыслей».
Подсудимые в последнем слове заявляли, что если будут осуждены, то не раскаются в содеянном и в дальнейшем поступят точно так же. Адольф Гитлер, которого председатель даже не пытался прерывать, вновь витийствовал в течение нескольких часов на самые разнообразные темы, часто не имевшие никакого отношения к предмету судебного разбирательства.
Адольф Гитлер среди других «пивных» путчистов
Он излагал свои взгляды на государство и его роль, свое представление о внешней политике Германии по отношению к Англии и Франции, угрожал судом тем, кто в данный момент вершит суд над ним, громко стучал по столу.
В тот момент он уже мало сомневался в мягкости приговора. Во время процесса Карин Геринг писала своей матери: «Гитлер абсолютно уверен, что он будет приговорен к какому-либо наказанию> а затем здесь же последует амнистия». Но было и кое-что, беспокоившее его: как иностранцу, осужденному ранее за преступление политического характера и освобожденному условно, ему реально угрожала высылка из Германии в Австрию. Поэтому он обратился к суду с настоятельной просьбой не применять к нему соответствующую статью закона о защите республики.
Хотя приговор Гитлеру и другим главарям путча гласил: пять лет заключения – на деле они должны были отсидеть лишь полгода, после чего имели право на досрочное освобождение. От высылки Гитлера суд решил воздержаться. Людендорф был оправдан, хотя и не сумел скрыть свою причастность к заговору. Остальные обвиняемые были приговорены к небольшим срокам заключения; троих сразу же освободили из-под стражи.
Адольфа Гитлера вместе с другими осужденными поместили в крепость Ландсберг, находившуюся в живописном месте на берегу реки Лех. Часть дня заключенные работали на воздухе (Гитлер был освобожден как «физически пострадавший»), остальное время играли в карты, выпивали, говорили о политике. Путчисты имели возможность заказывать изысканные обеды. Камеры никогда не запирались. Хотя длительность посещений каждого заключенного не должна была превышать шести часов в неделю, на деле этого ограничения не придерживались. У Гитлера был свой режим: он отвечал на почту, просматривал книги, пользуясь многочисленными презентами. Позднее он говорил приближенным: «Ландсберг был моим университетом за государственный счет». Много времени уделял диктовке будущей «библии» нацизма – книге «Моя борьба».
Прием Гитлером посетителей иногда продолжался по шесть-семь часов. В докладе баварскому министру юстиции администрация крепости признавала, что «число посетителей, побывавших здесь у Гитлера, исключительно велико. Среди них просители, лица, ищущие работу кредиторы, друзья, а также любопытные. Гитлера посещали адвокаты, бизнесмены <…> издатели, кандидаты, а после выборов – избранные депутаты-народники. К Гитлеру приезжали, чтобы получить от него совет, как добиться устранения разногласий в лагере народников».
Получается, что многочисленные националистические организации и группы, разрываемые взаимной борьбой, взывали к Гитлеру как к арбитру в своих непрекращающихся сварах.
И все же авторитет фюрера нацистов, достигший апогея в дни путча, неуклонно снижался. Запрещенную НСДАП раздирали противоречия. Только небольшая часть крайне правых продолжала видеть в Гитлере своего вождя. Например, один из активных нацистов фон Корсвант-Кунцов, будущий гауляй-тер Померании, писал в начале 1925 года: «Теперь станет ясно, вдохновляет ли его Бог или нет. Если это так, то он добьется своего, хотя ныне почти все высказываются против него. Если же это не так, что ж, значит, я ошибся и буду ждать, когда голос Бога прозвучит из уст кого-нибудь другого».
В этом письме, кстати, сообщалось, что Людендорф, живший после суда в Берлине, отправился в Мюнхен, чтобы убедить Гитлера не восстанавливать НСДАП. К тому времени генерал пересмотрел свои взгляды и собирался участвовать в политическом процессе на равных с конкурентами, соблюдая все правила демократии. Однако подобный путь пока не устраивал Гитлера, который после столь счастливого для него завершения процесса окончательно уверовал в свое превосходство над остальными политиками. Раздутому самомнению способствовало и окружение. Есть мнение, что «короля играет свита», – во многих отношениях этот афоризм можно отнести и к Гитлеру. Приглядимся к тем, кто находился рядом с ним в период, когда будущее немецких националистов, казалось, висит на волоске.
Вместе с Гитлером отбывал заключение Рудольф Гесс (Rudolf Hess), которого впоследствии назовут «нацистом номер три». Он родился 26 апреля 1894 года в египетской Александрии, в семье немецкого торговца. Во время Первой мировой войны Гесс служил на Западном фронте командиром взвода в том же полку, что и Гитлер. Был ранен под Верденом. В конце войны перешел служить в авиацию. В 1919 году он стал членом мюнхенского оккультного общества «Туле» и служил в одном из подразделений «Добровольческого корпуса» под командованием генерала Франца фон Эппа. В 1920 году Гесс примкнул к НСДАП – произошло это после того, как он увидел выступление Гитлера. Подобно поэту Эккарту, молодой ветеран разглядел в невзрачном болтуне задатки фюрера.
В самом конце Второй мировой войны Гесс утверждал, что, будучи студентом, написал диссертацию на тему «Как будет выглядеть человек, который вернет Германии ее былое величие». Это должен быть, писал он, диктатор, который не будет принимать участия в уличных демонстрациях, в выкрикивании лозунгов и в демагогии. Это должен быть человек из народа, но не имеющий ничего общего с серыми массами. Он должен будет обладать «огромной индивидуальностью» и не станет жалеть о пролитой крови. Чтобы достичь поставленной цели, он будет готов «предать самых близких друзей», управлять «с ужасной строгостью», держать личности и нации «в осторожных и чувствительных пальцах» или, в случае необходимости, «топтать их башмаками гренадеров».
Рудольф Гесс (второй справа) с Адольфом Гитлером в крепости Ландсберга
Адольф Гитлер в начале своей политической карьеры был весьма далек от такого образа, однако он очаровал Гесса – видимо, молодой ветеран внутренне жаждал встречи с выдуманным им лидером и поверил в силу подвернувшегося ему «трибуна».
В вечер первого знакомства с будущим фюрером Гесс в состоянии крайнего возбуждения ворвался в комнату к своей подруге. «Вот это человек так человек, – восторженно бормотал Гесс, – он никому неизвестен, и я уже не помню его имени. Но если кто-то и спасет нас от Версальского мира, то только этот человек, этот незнакомец вернет нам нашу поруганную честь!»
Рудольф Гесс был в числе первых, попавшихся на удочку гитлеровской демагогии. Спустя несколько дней он решил последовать за «пивным» политиком. На это было несколько причин. В первую очередь, беспорядочные политические воззрения Гитлера значительно совпадали с теми, которые его будущий последователь получил и глубоко прочувствовал в расистско-оккультном обществе «Туле». Оба были фронтовиками. Оба были тяжело ранены в боях. И оба были оскорблены развалом армии. Однако у Гесса в отличие от Гитлера была еще одна, внутренняя, потребность – тоска по авторитету. После начала самостоятельной жизни он постоянно искал человека, который мог бы указывать ему, что нужно делать, приняв всю ответственность за принятие решений на себя. В армии эту потребность удовлетворяли вышестоящие офицеры, но куда податься на «гражданке»? Оратор из пивной казался способным не только стать новым авторитетом для Гесса, но и мог предложить лекарство против тупой сверлящей боли за униженное положение одного из самых просвещенных народов. Для Гесса Гитлер стал новым мессией – вполне библейским спасителем, способным вывести нацию из тупика к светлому будущему.
Но и Гитлеру сразу понравился молодой помощник, который пошел за ним, как ученики-апостолы за Иисусом. Гесс был надежен, был знаком с влиятельными людьми из мюнхенской элиты, а еще обладал качеством, которое весьма ценил Гитлер – умением слушать.
Внутри маленькой тогда партии посмеивались над этой странной парой: Рудольф Гесс, сын буржуа, сдержанный, с хорошими манерами, и Адольф Гитлер, агитатор, родом из простой семьи, производивший впечатление неуклюжего и хитрого человека. Ничто не указывало на то, что это были будущий руководитель сильнейшего государства в мире и его заместитель.
Восхищение Гесса фюрером скоро переросло в неудержимый фанатизм.
«Славный парень> – так он писал своей кузине, – недавно во время своего великолепного выступления он довел зал до такого состояния, что в конце около 6 тысяч слушателей из различных слоев, пришедших в цирк «Корона», запели гимн Германии. Примерно 2 тысячи присутствовавших коммунистов пели вместе».
Рудольф Гесс – нацист с оккультными воззрениями
Кстати, у Гесса в то время был весьма авторитетный учитель. Молодой ветеран стал студентом Мюнхенского университета и проходил обучение у профессора Карла Хаусхофера (Karl Haushofer), чьи геополитические теории оказали на него глубочайшее впечатление. Понятно, что он пытался передать их своему новому другу и вождю.
О Карле Хаусхофере до сих пор ходят мрачные легенды. Рассказывают, что он был не просто искусным дипломатом, специализировавшимся на Юго-Восточной Азии, но и членом различных оккультных обществ, тайно управляющих цивилизацией. Многие авторы утверждают, что именно Хаусхофер научил Гитлера стратегически мыслить и чуть ли не предсказывать будущее. Однако на самом деле Хаусхофер и Гитлер ни разу не встречались воочию – посредником между ними всегда был Гесс.
Свое участие в воспитании будущего вождя подтвердил сам Хаусхофер, которого через двадцать лет на процессе в Нюрнберге расспрашивали по этому поводу: «Да, эти идеи пришли к Гитлеру через Гесса. Но Гитлер никогда их правильно не понимал, и он никогда не читал моих книг».
Тем не менее для любого, кто изучал «Мою борьбу» Адольфа Гитлера и хотя бы в общих чертах знает теорию Хаусхофера, очевидна связь между ними. Главное, что почерпнул Гитлер из геополитических воззрений бывшего дипломата – это идея «жизненного пространства» (Lebensraum). В «Моей борьбе» появляются новые ноты для идеологии нацистов. Рядом со старыми клише о необходимости создания «национального государства» мы находим призывы к обретению «жизненного пространства», дискуссии на тему «жизненное пространство и внешняя безопасность», призывы к установлению естественных границ, рассуждения о поисках равновесия между влиянием на суше и влиянием на море, а также о месте географии в военной стратегии. Все это, очевидно, появилось благодаря Рудольфу Гессу, внимательно изучавшему труды Хаусхофера.
Существенный вклад в развитие идеологии нацизма внес еще один верный последователь Гитлера – эмигрант Альфред Розенберг (Alfred Rosenberg), ставший позднее заместителем фюрера по вопросам «духовной и идеологической подготовки» членов нацистской партии и рейхсминистром по делам оккупированных восточных территорий.
Мюнхенский профессор Карл Хаусхофер, автор геополитических теорий
Альфред Розенберг родился в 1893 году в Ревеле (Таллинн), учился в Риге и Москве, где окончил в 1918 году Высшее техническое училище по специальности инженер-строитель. Хорошо говорил по-русски. В 1919 году Альфред Розенберг прибыл в Мюнхен как беженец из Советской России. Вскоре он вступил в общество «Туле». Ключом к быстрому вознесению нищего эмигранта, сына нищего сапожника стал документ, который Розенберг тайно вывез из Москвы – знаменитые «Протоколы сионских мудрецов». Описывая, как «Протоколы» попали к нему в руки, Розенберг рассказывал довольно нелепую историю. Будто бы к нему в комнату вошел таинственный незнакомец, положил документ на стол и молча удалился.
В действительности «Протоколы сионских мудрецов» имеют довольно прозаическое происхождение. Охранное отделение Департамента полиции Российской империи, внимательно следившее за развитием европейской общественной мысли, в 1895 году подготовило документ «Тайна еврейства», представляющий собой «суммарный очерк» по истории европейских и заокеанских движений, начиная с Крестовых походов и кончая революциями XIX века. Безвестные интеллектуалы Охранного отделения предложили версию всемирной истории, объясняющую абсолютно все еврейскими «дрожжами», на которых поднимались любые отрицательные явления цивилизации. Документ предназначался для служебного пользования, а потому общественного резонанса не получил. И вот через десять лет после составления «очерков» в Кишиневе публикуются «Протоколы» уже практически в том виде, в каком их знают современные исследователи. Поскольку имелись некоторые текстуальные совпадения с «очерками», некоторые историки считают, что кто-то «творчески» переработал отчет Охранного отделения с целью разжигания страстей на фоне революции 1905 года. Однако эта затея провалилась.
Вторую попытку «осчастливить» человечество «Протоколами» предпринял Сергей Нилус, ученик философа Владимира Соловьева. Он использовал их в качестве приложения к своей книге «Великое в малом и Антихрист как близкая политическая возможность». Едва ли история сохранила бы память о Нилусе, если бы не это приложение, обессмертившее его творение. Со второй публикацией «Протоколов» возник вопрос об их достоверности. Вместо того чтобы внятно объяснить происхождение цитируемых «документов», Нилус последовательно выдвигал три разные версии их происхождения. Согласно изданию 1905 года, «Протоколы» были похищены женщиной у «одного из наиболее влиятельных и наиболее посвященных лидеров масонства». По второй версии, приведенной в послесловии к английскому изданию «Протоколов», Нилус писал: «Мой друг обнаружил их в сейфе в штаб-квартире Общества Сиона, находящейся сейчас во Франции». По третьей версии 1917 года, «Протоколы» были изъяты из полной подшивки протоколов Сионистского конгресса, состоявшегося в Базеле в 1897 году.
Альфред Розенберг, один из идеологов национал-социализма
Характерно отношение к подлинности «Протоколов» Николая II, воспитанного в духе «государственного антисемитизма» и открыто поддерживавшего еврейские погромы. Если сразу после появления «Сионских протоколов», российский самодержец отнесся к ним с доверием, то скоро понял, что перед ним явный подлог. Прозрение Николая II случилось не само по себе, а после разъяснений, сделанных спецслужбами.
В «Протоколах» анонимные сионские мудрецы бесстрастным тоном провозглашают цель – коронацию Царя Иудейского на планетарном троне и излагают методы достижения этой цели. Воцарение Владыки из семени Давидова произойдет в результате однодневного государственного переворота, подготовленного повсеместно во всех странах. В то же время этот переворот случится путем всеобщего голосования всех измученных неурядицами гоевских (нееврейских) народов. Для того чтобы довести народы до требуемого состояния, когда они сами по доброй воле пригласят управлять ими сионских мудрецов, необходимо посеять смуту и войны, разложить правительства и армии, возбудить всеобщее неверие и хаос, расстроить финансы, торговлю и промышленность, вызвать животную вражду между классами, слоями и народами, убить всякую инициативу и авторитеты, развратить и споить население всех стран…
Как и большинство из его предшественников, после беглого прочтения «Протоколов» Альфред Розенберг понял, что это довольно грубая фальсификация, но зато в них содержится настоящий информационный динамит. Розенберг не сомневался: если использовать «Протоколы» с умом, то они принесут их владельцу немалую славу и деньги. И рассчитал правильно: «Протоколы» оказались тем самым материалом, которого не хватало немецким нацистам, чтобы показать всему миру, сколь злокозненные замыслы лелеют их «расовые враги».
В поисках поддержки Розенберг обратился к Дитриху Эккарту и вытащил «счастливую карту». Вот что пишет Розенберг по этому поводу в своих мемуарах:
«После короткой иронической ремарки госпожи фон Шренк (именно она рекомендовала Розенберга Эккарту. – А. П.) он внимательно выслушал меня. Без всякого сомнения, Эккарту могло пригодиться мое сотрудничество. Он протянул мне первый номер своего журнала, а я оставил ему несколько статей, посвященных в основном моим наблюдениям о России. На следующий же день Эккарт позвонил мне. Ему понравились мои статьи, и он попросил меня сразу же приехать. Эккарт принял меня самым сердечным образом…»
Розенберг и Эккарт стали близкими друзьями.
«Через некоторое время, – продолжает Розенберг, – я услышал об Адольфе Гитлере, который примкнул к ДАП и выступал с речами, заслуживающими внимания. Он, в свою очередь, наезжал с визитами к Эккарту. Так я познакомился с Гитлером. Эта связь определила мою судьбу и место Гитлера в судьбе германской нации…»