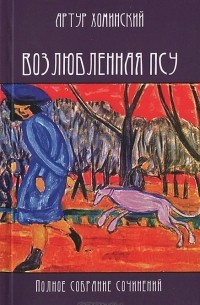Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
II. Жизнь, эта вечная жизнь!. 1908
Когда Тальскому предстала ломка старых понятий и идеалов, он почувствовал, что связывающие его с прошедшим воспоминания потеряли всякий смысл и лопнули брызгами раздувшегося мыльного пузыря.
Быть может, он любил одну женщину, но она умерла от воспаления левого легкого, и ее любовь его теперь грела, как огонек папиросы за версту.
И ему стало скучно, страшно скучно…
Он пошел на берег озера; оно было синее, как мысли поэта, и глубокое до невозможного.
У берега сидело три волка. Они ели зайца. Матери не было, она умерла за год до их рождения, испугавшись декадентской луны.
Но, поссорившись из-за ног замученного зверька, они перегрызлись и съели друг друга так, что от них остались только хвостики. Двое были – белые, а третий – как снег.
А их тени жалобно выли по уходящей жизни и ее вечному наслаждению.
Далее на берегу совершались сцены из народного быта. Мужики пили водку, скверно ругая ободранных ребятишек, которые, пообедавши, ели хлеб.
Сибемольную ноту выводил кулик на песчаной отмели, и рядами лежали недвижные и холодные, как северные женщины, раковины.
Жизнь, эта вечная жизнь!
Стоги сена, люди, назойливые вороны. Но вдруг с вершины спустился орел. Его глаза – пламень, его сила – сила бури, его размах крыльев 232 сант.
Он сел на копну, похожий на другую, и задумчиво глядел вдаль. Увидев это, люди вскрикнули и побежали им полюбоваться.
Но царь крылатых сидел задумчивый и грустный. Когда же ему надоели людские дрязги, он поднялся и улетел туда, где нет ничего, кроме света и пространства.
Таким быть должен поэт! – подумал Тальский и выстрелил себе в висок. И ему показалось, что прошла боль сознания, и его дух полетел вслед за орлом. Но он не умер, только волосы были обожжены. Когда же он очнулся, у берега длился бал.
Все уже носили ту искру танцев, что делает ненужной изысканность туалетов, забывая, что подобное наслаждение всегда доступно за 720 рублей, собранных вскладчину.
Тальский пошел туда, чтобы встретить ту, к которой начинал чувствовать тоску, неизъяснимо щемящую зубную боль в сердце.
Они безмолвно сели у берега. Она выше, он у ее ног, бесконечно считая 25 пуговиц на ее зелененьких ботиночках, прислушиваясь к звукам оркестра, который теперь с беззастенчиво-залихватским нахальством жарил китаянку:
1 3 5 8 7 6 5 3 1
5 4½ 5 6 5 4½ 5 6 5 4 3 5 2
5 6 7 6 7 6 6 5 8 6 5 4 3 2 1…
Зеленые ботинки… ты будешь спать 100 лет, но все же ты станешь для меня вторым идеалом, невысказанным сном бесконечности. А я… я пойду в широкий мир, в безбрежное пространство, моя жизнь – это любовь никогда не меркнувших звезд, но все же я вернусь, вернусь, вернусь опять после длинного ряда столетий, чтоб лечь, уснуть навек в сырой земле-матери…
Я тебя люблю, угасшие желания, померкшие цветы, я тебе дам столько золота, сколько ты весишь. Но не плачь, ради Бога, ради меня, ради 76164 руб. 48 коп.
Они встали, ушли и встретили труп коня.
– Милая, помнишь у Бодлэра? И ты, которую я люблю больше жизни, а жизнь я ни в грош не ставлю, будешь такою же роскошною падалью в сияющем цветами лугу!
– Виноват, мне кажется странным, что Вы говорите: труп, – кокетливо протянула спутница Тальского, Зинаида Дорн, – ведь мне мамаша сегодня купила 31 пару зеленых чулок.
– А в таком случае извините, тем более, что вы сегодня прекрасны, как 17-летняя роза.
– Послушайте, вы декадент?
– О нет, если бы я вас назвал красивым признаком невозможного, тогда дело другое.
Идут, он упал.
– Ах, Боже мой, вы испугались?
– Нет, меня эта барышня немножко толкнула.
– Ага, это дело другое.
А между тем гроза надвигалась. Все знали, что будет скандал. Все чувствовали это и боялись висящего в воздухе скандала. Но он разразился именно там, где меньше всего
его ожидали.
Какой-то серый в клеточках студент девять раз подряд поцеловал свою даму, назвав ее красивой и страстной змеей. Появился вскоре на своих бесшумных ботинках хозяин.
– Кто вам позволил ругаться?
– А вы кто?
– Я приват-доцент, хозяин этого бала.
– Ваши годы?
– 29.
– Вы женаты?
– Я вам уже раз сказал, что я приват-доцент.
– Грамотны?
Хозяин не ответил. Студент презрительно пожал плечами и ушел, по дороге нечаянно сломав лом, что четвертого дня оставили рабочие.
Буря прошла. Все заговорили разом, громко.
– Да не кричите, господа, ничего не видно!
Теснятся у буфета, жрут, словно два часа ничего не ели.
– Сколько стоит дюжина апельсинов?
– Рубль двадцать пять, рубль двадцать, последняя цена рубль пятнадцать.
– Это дорого, хотите два рубля?
– У нас не торгуются, извините, барин!
– Господа, не подслушивайте!
– Кто взял огурец?
– Мой лучший друг, я обронила спички…
Тальский угощает свою спутницу:
– Вам чего? скорее!
– Мне э…э…э… любви.
– Дайте бифштекс!
– С удовольствием! Ты кто?
– Я старик!
– Так чего же ты плачешь, ты глухонемой, что ли?
– Да, от рождения.
– Сколько тебе лет?
– 71, мой дедушка покончил самоубийством.
– Каким образом?
– Нет, что вы, Боже сохрани! он не образом, он перегрыз себе горло.
– Послушайте, господин, тут какая-то сторублевка, это не ваша?
– Сейчас, сейчас! У меня был 41 рубль, извозчику дал 50 коп., бутерброды 20 коп., жене 3 руб. – да вы не подумайте чего…
– Отстаньте с вашими расходами!
– Виноват, вы танцуете?
– Нет, я оставил дома!
Зина, вся уже фиолетовая, выходит и поет:
По временам откуда-то врывается пьяный рев отвратительного босяка, глядящего в освещенные окна:
«Пой, птичка, – думает Тальский, облокотившись о мраморную колонну, – пока цианисто-водородный калий не откроет тебе другого, лучшего мира. Плачь, ты знаешь хорошо, что это не поможет».
Зина кончила. Едет с ним.
– Виноват, ваш отец кто?
– Мой отец золотопромышленник, а вы?
– Я, пожалуй, помещик, а ваш отец кто?
– Мой отец золотопромышленник, а вы?
– Я, пожалуй, помещик, хотите жить вместе?
– Согласна.
– Дайте мне вашу руку!
– Не хочется вынимать из муфты.
– Церковь горит, – крикнул Тальский. Нет, это только молния ударила в купол, который исчез. И, казалось, купола никогда не было, и лишь вечно-голубое небо светило над развалинами. И только теперь, на просветлевшем фоне, пламя поднялось, ясное и спокойное, как самая жаркая свеча, что когда-либо горела на святом месте.
Приехали…
– Вот моя половина, вот ваша: постель, духи, безделушки из золота и жемчуга. У вас их много?
– Нет, нет, клянусь тебе, ты у меня единственный, убей меня, я невинна…
– Дура! вещей?
– Вещей? двадцать одна подвода с половиной.
Наконец, все перевезено, перенесено, переломано.
…
Белое счастье, кошмар утоления… нескончаемые часы экстаза чувств…
Тальский? Вы заснули?
Утро…
Тальскому вспоминаются строчки:
и Зина плывет в другой мир.
Довольно!
Это был абсурд, оргия страсти для цветов далекого свода. И они сходились, расходились и опять сходились. И жизнь их была ярким, блестящим сном, средь театров, садов, тигровых шкур и вечного «Асти Спуманте». Сплетая руки, они шли к солнцу с песней счастья на устах, не видя слез и проклятий.
Но колесо судьбы повернулось, и все померкло. И не стало дыхания цветов, поцелуев и жизни на вечных развалинах в бреду предутренней тоски…
Однажды Тальский уехал собирать данные для своей работы: «Четверной корень беспередаточности разума как фактор раздвоения личности у девятимесячных испуганных зайцев» и пропадал 4 дня и 2 ночи.
Вернувшись в 3 часа утра, он увидел в комнатах Зины свет. – Неужели она до сих пор спит, или у нее есть… И при этом нехорошее предчувствие сжало его мозг холодным кольцом оцинкованной стали, лучшего местного производства, фирмы «Н. Петров и Тетя». Однако, нащупав в карманах два револьвера, – браунинг был испорчен, а к смит-и-вессону пуль не было – он храбро прошмыгнул на свою половину и на всякий случай надел персидский халат, купленный в Бостоне у проезжего еврея-виноторговца.
Когда он вошел в будуар Зины, она, полуодетая и растрепанная, лежа на кушетке, читала какой-то модернистический сборник стихов. В комнате было очень много дыма.
– Наконец-то ты вернулся!
– Мне было очень весело, – начал Тальский, но испугался, посмотрев на лицо Зины, – оно было землисто-серое, с черными кругами под глазами…
– Что с тобой, ты отравилась, сумасшедшая?
– К сожалению, нет! Я только 40 часов ждала тебя, а ты разоряешься! Подожди, – тянула она, – ты меня бросил, я для тебя старая, некрасивая, но найдутся многие, другого мнения, чем ты. И с этими словами она окинула взором свое громадное тело, все в лентах и кружевах дорогих.
Тальский прижался к ней, стараясь лаской потушить накопившуюся веками злобу, но она, сильная и гибкая, как две кошки, вырвалась и с дико-расширенными глазами вцепилась зубами ему в левое плечо. Тот пронзительно вскрикнул и разжал руки, но, понимая, что границы никогда не могут быть перейдены, ударил ее той же рукой по ногам выше колен:
– Тебя целуют, а ты кусаешься, подлая змея!
Зина глухо зарычала, встала, порылась в каких-то ящиках, исчезла в другой комнате, откуда через час вышла в шляпе и одетая.
– Зина, куда ты? я тебя любил, люблю и вечно буду любить!
Но, когда она вынула из туго набитого бумажника золотой ключик, он не выдержал и бросился со слезами перед ней на колени, целуя ее уже зеленые ботинки.
– Милая, обожаемая, – плакал Тальский у ее ног, и много слов, умилительных и прекрасных, слетало с его языка, без всяких, по-видимому, заранее определенных порядка и смысла.
Зина схватила хлыст. Ударить его, мелкими каплями крови посчитать оскорбления, сделать из него раба, вечную собаку! Нет! она отбросила хлыст и взялась за ручку двери.
Но гула удаляющихся по каменной лестнице шагов Тальский не мог вынести и залился дикими, нечеловеческими слезами, после чего заснул так сильно, что не слышно было дыхания.
А когда он очнулся, на глазах его лежала мягкая, теплая, женская ручка. И Зина, красивая и печальная, шептала: «Прости меня, я гадкая, ревнивая, злая…»
Они слились в поцелуе, после которого наверно не знали, сколько времени показывают часы в другой комнате.
Жизнь! эта вечная жизнь!
Прошло несколько ночей. Тальский худеет, бледнеет и тайком принимает какие-то порошки и пилюли. А Зина хорошеет и от нечего делать собирает натуралистические открытки.
Однажды она зашла в магазин и, купив, как всегда, открытку, посмотрела и дико вскрикнула. На абсолютно-черном фоне кто-то стоял на голове. (Впопыхах не заметила, что держит открытку вверх ногами). Кинулась к Тальскому.
– Милый, стань на голову!
Тот решительно и коротко отказался, за что получил опять столько ударов хлыста, что на 69-й день ему казалось, что его тело – блок, на котором поднимают 61 пуд с небольшим на 3 9/32 фута.
Зина приобрела дозу кураре, с которой долго не знала, что сделать. Чтоб освободиться от нее, она вспрыснула яд на ходу какому-то проходившему по улице неизвестному человеку. За это между Зиной и Тальским состоялась дуэль, так, как он этого ожидал. Пуля Зины, стрелявшей в десяти шагах, попала в одну из многочисленных счастливых десятирублевок, которыми были всегда полны карманы ее противника, и, рикошетом ударившись в ее безопасный панцирь, повалила ее на землю.
Падая, она заглянула в лицо Тальскому и вскрикнула: «Я поняла все и остаюсь спокойной – моя открытка была вверх ногами!» Затем она встала и ушла в ночные дали.
Через несколько дней Зина вполне оправилась от пережитых ею потрясений, но все-таки Тальский разорился на «опытах разводки стерилизованных бацилл молока белых испанских козлов, в абсолютно безвоздушном пространстве, без звука, света и тепла, при температуре – 273° Р» и спустил имение и все десятирублевки.
Он спал, где попало, питался объедками сорных ям, прикрываясь единственной уцелевшей попоной.
Однажды, в ночь под новый год, он забрел на могилу отравленного Зиной человека.
– Серым теплом вечно спит мой красавец под смерзлой землей и никакие силы, никакие обещания не разбудят его вновь для вечно-юной жизни…
Вдруг он встрепенулся.
– Да – тихо подумал он – я нашел счастье, это: «производство шоколадных конфет из волос высоких шатенок, рожденных 31 марта».
Выпрося рубль у своего бывшего пастуха, он купил бумаги и карандашей и, сидя на тумбе, нарисовал планы фабрик.
Они были построены.
Дело принесло ему 16,777,216 рублей в год. Он сыпал деньгами на весь мир и облагодетельствовал пастуха, отдав ему рубль.
Но пастух страшно отомстил за боль Зины, за свой позор и поражение других. Он бросил Тальскому рубль на порог его дома. Тот, возвращаясь поздно домой, увидел его и, не вынеся такого страшного наплыва денег, захотел покончить с собой самоубийством – настолько сильно удариться лбом в стенку, чтобы самые микроскопические исследования не смогли найти остатков его мозга. Быть может, это было излишне, так как его совсем не было.
Но, когда он захотел исполнить свое намерение, проходящий босяк толкнул его на сорную кучу.
На ней Тальский лежал, пока не ушел.
– Стерво на навозе, – сказал кто-то, и это было общественным мнением о том, чьим сном было жить, жить всегда в апофеозе могущества и блеска.