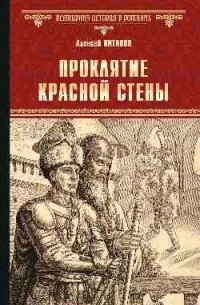Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Проклятие красной стены
Глава 1
– А тя звать-то как? – Савва линялым рукавом рясы отер с бороды капли молока.
– Тиша. А тя как?
Белобрысый отрок с пронзительно-синими глазами сидел напротив монаха, словно пытаясь заглянуть тому в рот.
– Да нет тама ниче интересного. Саввой меня звать.
– Где тама-то?
– А ты куды смотришь. В рот мой пялишься. А я и говорю: нет тама ниче интересного.
– Я на монахов когда смотрю, все думаю, что в их не так, как у обычных людей?
– Ишь ты. С чего взял-то, что у монахов не так чего-то? – Савва насмешливо вскинул брови.
– Да вот с того и взял. Давеча видел, как один лягушку уговаривал с дороги спрыгнуть. Так и говорил с ею, как с людиной: уйди, мол, девка, а то раздавят тебя ненароком.
– С лягушкой! Так с лягушкой говорить – чепуха сущая. Вот ежли я рот широко раздвину, то, паря, совсем обомлеешь. У меня в горле таракан живет, Тимофей Федорович, он так усищами шевелит, что и мне порой ажно до чертиков щекотно.
– Да иди ты! Таракан у яво! – Тиша отпрянул. – А ежли таракан, то за людским столом и делать неча. Брр. Ты вот лучше скажи мне: а че ты весь покоцанный такой? Руки – словно уголья горящие месил. Да и одежонка уж больно гарью пахнет.
– А я, паря, так и есть… – Савва отвел взгляд. – У костра давеча сидел. Вдруг вижу: а из пламени смотрит на меня лицо девичье. Присмотрелся. Девичья-то лишь голова, а все остальное птичье. Я к ей руки-то протянул, а она как вцепится в меня когтями и давай в пламень тащить. Ну, насилу отбился.
Савва провел длиннопалой ладонью по черной с проседью бороде.
– Да и иди ж ты! Птица у яво!
– А у тя все одно: иди ж ты да иди ж ты! – Савва передразнил Тишу. – Ты вот мне скажи, а с батей-то твоим шибко, вижу, неладное?
Тиша понурился.
– Да помирать, кажися, будет. А-а, – парень мотнул головой. – Ты только об этом больно-то не шуми. Есть тут у нас один злодей окаянный, пан Войцеховский. Все со своим чеканом ходит, опирается на него. «Я вас, – говорит, – от вольницы-то быстро отучу! Я вас, курвы, уважать законы заставлю! Я вас, курвы, Юрьев день быстро вспоминать отучу!» Ну и все так.
– Что такое чекан? – Савва заинтересовался.
– Это, как бы тебе объяснить. Ну, палка такая по пояс в вышину, на одном конце набалдашник, на другом – молот, который с одного краю в виде молотка сапожного, а с другого – чем-то даже птичий клюв напоминает. А еще у него венгерка всегда на поясе.
– Венгерка – сабля. Это я знаю.
– Ну так вот. Приезжает как-то с неделю, поди, назад этот пан, да и давай на батю орать, почему, мол, сена мало ставишь. А батя мой объясняет нелюдю, что, дескать, пожни окашиваю не все. Надо же по очереди. Одна отдыхает, сил набирается, чтобы гуще травы дать, другая окашивается. А на другой год наоборот: та, что отдохнула – под косу ложится. А пан проклятый, Войцеховский, орет, что много сена нужно лошадям. Где-то в европиях ихний король воюет, поэтому все должны трудиться, чтобы мы войну не проиграли.
– Ихний, говоришь? – Савва глубоко вздохнул.
– Так и есть, ихний! – Тиша перекрестился. – А наш разве? Мы по-ихнему все одно креститься не будем. Наш государь на Москве. Вот и войско собирает, говорят. А ну как перетянет по загривку-то окаянному. Будут знать! Да сколько мужиков по лесам партизанит! Все одно, не будет им здесь покоя.
– Глядишь, сам ужо при поляках на свет народился, а на русского царя молишься! Ты про батю-то дальше давай!
– А чего тама давать. Соскочил пан-иуда с коня, да батю в грудь чеканом этим и сунул. Я прямо слышал, как косточки-то провалились. Вот теперя мы с мамкой тужимся из последних, с утра до ночи на покосе да на погребке. Мати счас на дальней пожне. Тебе вот молока оставила и ушла еще до рассвета.
– Эхма, Русь-матушка! – Савва провел тыльной стороной ладони по вспотевшему лбу. – Годков-то тебе сколь стукнуло?
– Фофнадцать.
– Как? «Фофнадцать», – передразнил Савва.
Парень пропустил мимо ушей безобидную насмешку собеседника.
– Боюсь, не наставим мы сена как надо пану. Тогда он нас запродаст. Трава уже жуковать начала. Слыхано ли, в августе косить!
– Жуковать? – переспросил Савва.
– Трава сочной должна быть, тогда сено душистое. Такое скот шибко любит. А с пожуковатой травы – прах один. Я счас до кур сбегаю. Поди, обнеслись. Наших яиц попробуешь, да ступай тогда уже с Богом. Мне работать надобно.
– А коса есть лишняя? Я, парень, косить шибко люблю. У вас от, вишь, раздолье, а у нас на Холмогорье все больше лес густой, поженки маленькие. Каждая охапка на вес золота.
– Никогда золота не видел. Только говорят о ем. Холмогорье – это где ж такое?
– Это там. На севере. И Белое море там есть. Хол-лодное бывает до лютости прям. Так косу-то покажешь?
– Покажу. Чего там.
Савва и Тиша встали из-за стола. За порогом избы сиял восход. Воздух, наполненный стрекотом кузнечиков, гудением оводов и комариным писком, был до того плотен от поднявшегося удушливо-сладкого, пряного духа трав, что напоминал остывающий свежесваренный кисель, в котором все живое передвигалось вплавь, словно преодолевая незримое течение. На несколько верст вперед, до самой кромки темнеющего леса, полыхало яркими цветами, перетекало глубокими волнами высокое разнотравье.
– Ух, и сила какая! И чего людям не живется?! – Савва, прищурившись, любовался природой.
– Эт не все наше. Наше только до той вона березы, – Тиша показал пальцем на одинокое кривое дерево. – Пошли в сарай.
В сарае Савва снял со стены косу-горбушу, тронул ногтем лезвие.
– Не точена давненько. Полопатить бы.
– А мы ею уже не пользуемся. Как литовки появились, так мы только ими.
Тиша щелкнул указательным пальцем по металлу, тот радостно отозвался приглушенным звоном.
– Ишь вон, литовки какие-то! – Савва заинтересованно оглядел незнакомое орудие крестьянского труда.
– Литовку мы еще стойкой называем. Ей косить куда удобнее, сгибаться не надо.
– А сгибаться, парень, ой как полезно бывает. Больше гнешься, скорее не сломаешься. И молитва в труде куда как шибче звучит. Дай-кось брусок.
Савва взял из рук отрока точильный камень. Уперев косище в живот, прихватив левой рукой лезвие ближе к концу, монах резво принялся охаживать металл камнем. Вжик-вжик, – звуки сливались друг с другом, точило было невозможно уловить глазом.
– Ан, вот вишь, и изладилась! – Савва подоткнул подол рясы за веревку пояса, широко перекрестился, глядя на плоский диск утреннего солнца. – Ну, с Богом, стал-быть!
Тиша вылупил глаза на торчащие коленки, на поросшие кудряво-черным волосом ноги странного мужчины, который вчера попросился к ним на ночевку.
– Пошли давай. Показывай поженку-то свою.
– Че показывать-то? Как вышел за жерди, так и коси.
– Ну, поглядим на твою жуковатую. Эть, вишь, как тебя не обзовут только, травушка-любавушка.
Монах сухим стеблем прянул между жердей ограды и оказался в чистом поле. Постоял, щурясь на восход, и опустился на колени. Широченный взмах. Под косой зашипело, взвились из скошенной травы тучи мошек.
– Полегче вы, окаянные!
Он рассмеялся громко, заливисто, отфыркиваясь от мошкары, точно огромный конь. И пошел медленно в глубь поля, похожий на перевозчика в лодке с одним веслом. Взмах в одну сторону, потом в другую, а лодка плывет, упрямо, не быстро, но плывет.
Тиша зачарованно смотрел, как падают вражьи зеленые рати под ударами меча витязя-исполина. Он всегда так представлял нескошенную траву, чтобы легче управиться было. Вот первый полк лежит уже, в другой нужно врубиться и победить, а третий окружить да искромсать в капусту. Так, бывало, увлечется, что и кровавых пузырей на ладошках не замечает. Но здесь Тиша увидел совсем другое. На его памяти горбушей не косили, а если и бывало, то по мелочи – скоту свежей травы охапку на вечер, не более. А тут человек к траве лицом совсем близко опускается, сливается, шепчется с ней, точно на ушко друг другу, баюкает ее, целует и просит прощения. И та его понимает и смиренно принимает все, как оно есть, по судьбе и в жизни. Пятится поле. Широкими пластами ложится справа и слева от косца. А он все идет и идет вперед, оставляя позади себя тонкую алую ниточку крови, сочащейся из голых коленей. Вот она, молитва-то, как вершиться может! И показалось Тише, что он стал свидетелем какого-то очень древнего обряда. Совсем древнего, который совершается здесь и сейчас, но был обряд этот еще задолго до его мамки и бати, до Успенского собора, что высится на городском холме, даже до соснового леса, синеющего на горизонте, разве что огромные речные валуны помнят о нем.
– Ну че раззявился? Воды, может, принесешь?
Лицо монаха сияло белозубой улыбкой.
Тиша зачерпнул ковшом из ведра и припустил по скошенной полосе. А когда приблизился, в нос ударил терпкий, сильный дух богатырского пота. Даже воздух вокруг, казалось, весь стрункой вытянулся от этого запаха, вот-вот лопнет.
– Век бы так, парень. Да лиха не знать. Ну, я еще трохи тут-ка поохочусь, да пойду по своим делам. Да ты не боись, пока полюшко не умну, никуда не денусь.
Савва снова засмеялся открытым, вольным смехом, глядя куда-то поверх Тишиной головы.
Ближе к обеду оба сидели на крыльце и по очереди пили хлебный квас, изредка перебрасываясь словами. После многочасовой работы говорить не хотелось, а молчать как-то неловко – все ж, недавно познакомились. Но Тишу один вопрос ой как мучил.
– Да ты не мнись, парень, вижу, черт тебя за печенку крутит, – Савва скосил глаз на собеседника.
– Вот ведь у тя какая палка-то? Все в толк не возьму. Давеча, пока ты косил, я ее в руке-то примерил. Легкая, пружинит. А вот из какого она дерева?
– А те не говорили, что чужое брать – руку терять?!
– Говорили. Но я, вишь, до всяких там палок, чеканов и сабель уж больно охоч.
– И смышлен не дюже!
– Да ведь палка и палка себе. Чего тут такого-то?
– Не палка это, а посох!
– Ну посох. У нас все рясники с посохами ходят. Только у них обычные, суковатые. Таких в лесу на каждом шаге найти можно. А у тя какой-то не такой посох. Не скажешь, откель?
– Эх, знал бы сам – откель, то, может, че и соврал, а то и соврать чего – не знаю.
Они не заметили, как за их спинами открылась дверь хаты, и в проеме возник из темноты отец Тиши, Степан Курило.
– Эко травы страсть какую понаскашивал! – мужчина говорил слабым дрожащим голосом, в груди ходуном ходил тяжелый, булькающий хрип. – Баско повалил! Баско!
– Бать, ты чего встал? – Тиша испуганно посмотрел на отца.
– Да вот встал впоследки на землю свою посмотреть.
Степан Курило сделал два мелких шаркающих шага и оперся на плечо сидящего на ступенях Саввы. Монах скосил взгляд на бугристую, натруженную руку хозяина дома и вспомнил… Вспомнил, как точно так же четверть века тому назад стоял на крыльце его отец, Молибог Шильников, неизвестно куда провожая своего странного долговязого сына.
И не только это вспомнил… Спертый воздух полутемной избы. Тяжелый от его смердящего неподвижного тела. И голос младшей сестры Аленки: «Давай, Саввушка, я тебя оботру! Поуделался немного. Ну, ничего, ничего!» И она поворачивала его сухую плоть, оттирала влажной тряпкой от прилипших испражнений спину, ноги, ягодицы. Меняла подстилку, взбивала подушку и садилась в изголовье так, чтобы он не видел ее катящихся слез.
Однажды ночью отец взял его на руки и понес. Ему было хорошо, тепло и так уютно, что он не хотел задумываться: с чего вдруг отец среди ночи куда-то его несет. А когда повернул голову, увидел обрыв, тот самый, с которого открывалась необъятная ширь Белого моря. И уже было зажмурился, потому как догадался, что его ждет, но неожиданно услыхал резкий крик Аленки: «Не надо!»
Отец, словно мешковину, закинул его на левое плечо и, подойдя к сестре, ударил тяжелой ладонью чуть выше уха. Аленка зашаталась, но устояла на ногах и снова закричала: «Не надо, тять!»
Отец и сам уже понял, что нельзя. Как потом смотреть в глаза дочери?! Раз не смог незаметно, теперь остынь немного. Сам себя хотел обмануть. Перед Богом с этаким грузом не оправдаешься. Да как бы жил потом! Спасибо Аленке! Уберегла от греха.
Но не сразу все так было.
Было еще легконогое детство, где носились они с сестрой вокруг избы, вечно догоняя друг дружку… Грибы, ягоды, первые выходы с отцом на охоту и рыбалку, зимние короткие дни и длинные-предлинные ночи, когда сквозь мутное окно из бычьего пузыря светила ошалелая от мороза луна. И не беда, что не было соседской детворы. Соседей вообще никаких не было, потому как жили они своей семьей на дальней выселке. Отец пару раз в году ходил на лодке за солью и мукой, привозил нехитрые гостинцы и кое-что из одежды.
Но потом пришла первая беда. Жена Молибога Агафья изготовилась рожать третьего. Все ждали этого ребенка. Придумали сразу два имени: мужское и женское. Савва все свободное время вырезал игрушки из дерева для будущего малыша. Пришла повитуха из Поскотины. Савву и Аленку выставили из избы.
Савва запомнил душераздирающие вопли матери, но крика малыша так и не дождался. Повитуха Матвеевна вполголоса говорила отцу, что чадо удавилось пуповиной, а Агаша дух испустила, не перенесла родов.
На этом детство Аленки и Саввы закончилось. Двенадцатилетняя Аленка стала выполнять по дому всю женскую работу, а Савва помогал отцу.
Еще раз в их жизни все перевернулось год спустя. С чего вдруг Савве вздумалось показать перед Аленкой свою удаль? Он встал на ходули и пошел по самому краю обрыва. Ходули же сделал высоченные, чтобы у сестры дух перехватило. Вдруг кусок земли обломился, ходуля пошла вниз. И он бы спрыгнул, уберегся от падения, но сестра рванулась к нему – поддержать, а получилось, что сама и подтолкнула.
Тело Саввы полетело под уклон, билось о камни, переворачивалось, отскакивало от корней, а в самом низу ударилось о валун и едва не переломилось надвое.
И все. Ноги обездвижели. Он мог пошевелить только кончиками пальцев. Слава Богу, руки и голова уцелели. И остались ему нехитрые занятия: то лапти плести, то сети чинить. Отец места себе не находил. Надрывался от работы и нещадно страдал без женщины. А куда приведешь новую жену? Ладно бы хоть все здоровы. А когда калека в доме, найти молодую хозяйку ой как не просто, да еще на выселки с черной избой посреди тайги – мало кого такой судьбой заманишь. Вот и померк однажды рассудок у Молибога. Но спасибо Аленке. Хоть и горько, но жить дальше нужно.
Но, как говорится, где второй, там и третий.
Откуда он взялся, этот старый норвежец Бьорн? Явился в дом, когда никого не было. Точнее, был только Савва. Норвежец долго сидел возле постели больного, крутя в пальцах упругий, отполированный временем посох, а заслышав шаги за порогом, встал и пошел навстречу Молибогу. Савва хорошо запомнил их разговор.
– Отдай его мне. Мой хочет что-то передать. Время пришел, и мой должен передать.
– Он калека. Вот уже год не встает.
– Мой знает и все видель собственными глазами. Мой хорошо обещает с ним обходиться. Поверь, Молибог, мой долго искал преемника. Твой сын подходит, как никто другой. Поверь еще, он может встать на ноги.
Савва не слышал ответа отца, но был уверен, что тот согласится. Бьорна знали и уважали. Бьорна боялись. Бьорна любили. Только бы Аленка не застала. И не застала. Обошлось. И вот уже Савва лежит на двухколесной повозке, которую тащит норвежец.
Жил Бьорн на старой ладье, выброшенной штормом на берег, еще при царе Горохе. И похоже, лучшего места на земле для него не существовало. Посреди судна высился шалаш из шкур. Точнее, стенами служили борта, в которые упирался двумя крыльями шлемообразный навес. Внутри помещались лежанка, стол, до того низкий, что за ним можно было только стоять на коленях, и очаг, сложенный из речных камней там, где провалилось дно.
Норвежец, хоть и казался стариком, легко, точно агнца, закинул на плечо Савву и перенес в свое жилище. Положил лицом вниз, задрал рубаху и долго мял и давил корявыми могучими пальцами ватную спину. Парню было до того больно, что сдержать крик он даже не пытался. А Бьорн только приговаривал:
– Кричи! Кричи! Эт-то сейчас очень можно! Эт-то очень твой пом-могать!
Страшные своей силой, длинные пальцы проникали в Саввину плоть, поворачивали с хрустом кости, давили так, что у парня из глаз сыпались синие брызги. Потом Бьорн резким движением поставил больного на ноги спиной к себе, обхватил поперек туловища, прижал к груди и, приподняв над полом, несколько раз тряхнул. И сказал:
– Иди. Тафай. Тафай. Иди!
И Савва пошел. Шаг, другой. На негнущихся тощих ногах. Упал, больно ударившись локтем, обдирая ладони о шершавое занозистое днище, но ревел ревмя от радости и безумного счастья. Он шел. Шел сам. И только слышал сзади:
– Тафай. Еще иди. Не хочешь больно чтобы, тогда тафай иди! Боль – эт-то хорошо. Боль – знач-чит, живой!
Прошло несколько недель после того, как Савва снова стал ходячим. О том времени, когда он лежал и смердел, вспоминать было некогда. С самого утра, перед тем, как на коленях устроиться за столом, Бьорн заставлял Савву брать валун, зажимать между ног и прыгать с ним вдоль берега добрую версту в одну сторону и обратно, а потом с тем же валуном бежать в гору, а с горы катиться кубарем, прижав камень к животу.
Отдельной странностью была еда. Питаться старый норвежец предпочитал рыбой и желательно чуть подтухшей. Для этого приходилось в любую погоду забредать в море и ставить сеть, а потом тянуть ее, отяжелевшую, цепенеющими от ветра и усилий пальцами. Улов прикапывали в ямках возле ладьи и ждали, пока рыба «дойдет». Излишки обменивали. Много раз тонкие веревки рвали ладони Саввы. Бьорн все на свете лечил рыбьим жиром и потрохами, смешивая то с морской водой, то с прибрежной землей, то с какими-нибудь травами. И раны затягивались. Скоро кожа на руках Саввы стала настолько продубленной, что хоть ножом полосуй, да без толку, до крови не доберешься.
Не то ежедневное прыганье с валуном, не то рыбий жир и морской ветер поспособствовали, но за год жизни у норвежца Савва вымахал так, что стал выше наставника на полторы головы. А ведь был, страшно вспомнить, – плевком уронишь. Бьорн смотрел на труды свои и одобрительно покрякивал, кивая седой головой. А потом настало время посоха. Но раньше Савва должен был сходить домой и попрощаться с близкими.
Что случилось за этот год с Молибогом? Об этом даже Аленка молчала. Но стал отец согбенным и дряхлым, едва передвигал ноги. И это несмотря на то, что в доме появилась молодая жена, которая была уже на сносях. «Что случилось?..» – спрашивал взглядом Савва, но все молчали, пряча глаза. В тот же день они попрощались. Точно так же, как сейчас отец Тиши, стоял его отец на крыльце, сжимая холодеющей дланью сыновье плечо.
Ах, да. Еще ведь посох!