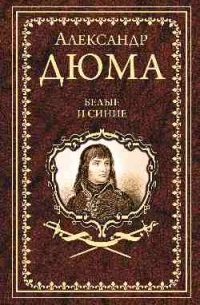Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XII. СЕН-ЖЮСТ
Как мы видели, прошла ночь, а от Тетреля не поступало никаких известий; точно так же прошел следующий день.
В пять часов пополудни, устав ждать известий, Эжен и Ожеро решили отправиться за ними сами и вернулись в гостиницу «У фонаря».
И действительно, здесь они кое-что узнали.
Госпожа Тейч, пребывавшая в полном отчаянии, рассказала им, что ее бедный малютка Шарль был арестован в восемь часов утра и отправлен в тюрьму.
Целый день она прождала свидания с Сен-Жюстом и смогла его увидеть только в пять часов вечера.
Она вручила ему записку Шарля.
– Хорошо, – сказал Сен-Жюст, – если то, что вы мне рассказали, правда, завтра его освободят.
Эти слова несколько обнадежили г-жу Тейч, и она удалилась; гражданин Сен-Жюст не показался ей столь свирепым, как утверждали.
Хотя Шарль считал себя совершенно невиновным, поскольку за свою жизнь школяра никогда не имел отношения к политике, он проявлял некоторое нетерпение, ожидая известий, которые за весь день так и не поступили; на следующий день это нетерпение переросло в тревогу: утро проходило, а народный представитель все так и не вызывал его к себе.
Это происходило не по вине Сен-Жюста, одного из пунктуальнейших людей, всегда державшего свое слово. На этот день была намечена очень ранняя поездка во французские войска, расположенные вокруг города, с целью проверки, неукоснительно ли выполняются приказы Сен-Жюста об охране Страсбура.
Сен-Жюст вернулся в ратушу лишь в час пополудни и тут же, помня об обещании, которое он дал г-же Тейч, направил в тюрьму приказ привезти к нему Шарля.
Во время поездки Сен-Жюст промок с головы до ног и, когда юноша вошел в его кабинет, как раз заканчивал переодеваться и повязывал галстук.
Как известно, галстук был главной деталью туалета Сен-Жюста.
Это было настоящее сооружение из кисеи, над которым виднелось довольно приятное лицо; главное предназначение его заключалось в том, чтобы отвлекать внимание от непомерно развитых челюстей, обычно присущих хищным животным и завоевателям. Особенно поражали в его лице глаза, огромные, ясные, глубокие, с пристальным и вопрошающим взглядом; над ними нависли не дугообразные, а прямые брови, сходившиеся над переносицей всякий раз, когда он хмурился, охваченный нетерпением или тревогой.
Бледное лицо Сен-Жюста имело сероватый оттенок, как и у всех прилежных тружеников Революции: предчувствуя свою преждевременную смерть, они работали день и ночь, чтобы успеть завершить грозное дело, вверенное им духом, заботящимся о величии народов. Мы не решаемся назвать этот дух Провидением.
У Сен-Жюста были полные и дряблые губы – губы чувственного человека. (Начав свою литературную деятельность с непристойной книги, он с помощью невероятного усилия воли сумел обуздать собственный темперамент и заставить себя вести жизнь аскета.) Поправляя складки своего галстука и то и дело отбрасывая назад шелковистые пряди своей великолепной шевелюры, он беспрерывно диктовал секретарю приказы, постановления, законы и приговоры, которые не подлежали обжалованию или пересмотру и на двух языках – немецком и французском – вывешивались на стенах домов, расположенных на самых людных площадях, перекрестках и улицах Страсбург.
В самом деле, власть народных представителей, направленных в армию, была настолько безраздельной, абсолютной и привилегированной, что они уже не считали отрубленных ими голов, так же как крестьяне не считают скошенных травинок.
Краткость была отличительной чертой постановлений и законов Сен-Жюста; его голос, диктовавший их, был отрывистым, звонким и проникновенным. Впервые Сен-Жюст выступил в Конвенте с требованием предать суду короля, и при первых же словах его речи, резкой, холодной и острой, как стальной клинок, все слушатели как один затрепетали, охваченные странным волнением, и поняли, что король погиб.
Повязав галстук, Сен-Жюст резко повернулся, чтобы взять свой сюртук, и заметил ожидавшего юношу.
Он пристально посмотрел на него, видимо напрягая память, а затем неожиданно протянул руку к камину.
– А, это тебя арестовали вчера утром, – сказал Сен-Жюст, – и ты передал мне записку через хозяйку гостиницы, где ты проживаешь?
– Да, гражданин, – отвечал Шарль, – это я.
– Значит, люди, которые тебя арестовали, разрешили, чтобы ты мне написал?
– Я написал тебе заранее.
– Каким образом?
– Я знал, что меня арестуют.
– И ты даже не подумал спрятаться?
– Для чего?.. Я был невиновен, и к тому же говорят, что ты справедлив. Сен-Жюст, молча глядевший на мальчика, тоже казался очень юным в своей белейшей и тончайшей полотняной рубашке с широкими рукавами, в белом жилете с большими отворотами и с искусно повязанным галстуком.
– Твои родственники эмигрировали? – спросил он наконец.
– Нет, гражданин, мои родственники отнюдь не аристократы.
– Кто же они?
– Мой отец – председатель суда в Безансоне, мой дядя – командир батальона.
– Сколько тебе лет?
– Мне пошел четырнадцатый год.
– Подойди ко мне. Юноша повиновался.
– Клянусь честью, это правда: он похож на девочку! – сказал Сен-Жюст и, обратившись к Шарлю, спросил: – Но ведь ты что-то натворил, раз тебя арестовали?
– Двое моих земляков, граждане Дюмон и Баллю, приехали в Страсбур, чтобы потребовать освобождения генерал-адъютанта Перрена. Я узнал, что их должны арестовать ночью или на следующий день, и предупредил их запиской; мой почерк узнали; я же полагал, что поступаю правильно, и взываю к твоему сердцу, гражданин Сен-Жюст.
Сен-Жюст дотронулся до плеча юноши своей белой ухоженной рукой, похожей на женскую. – Ты еще ребенок, – сказал он, – поэтому я скажу тебе только одно: есть более святое чувство, чем любовь к землякам, – это патриотизм; мы прежде всего дети одной отчизны, а не граждане одного города. Придет день, когда разум восторжествует и человечество будет дороже родины, люди станут братьями, нации – сестрами и не будет других врагов, кроме тиранов. Ты уступил благородному чувству любви к ближнему, которому учит Евангелие; однако, поддавшись ему, ты забыл о более возвышенном, священном и благородном чувстве – о преданности отчизне, которая должна быть превыше всего. Если эти люди – враги своей родины, если они преступили закон, нельзя было вставать между ними и мечом правосудия; я не из тех, кто имеет право ставить себя в пример, ибо являюсь одним из покорнейших слуг свободы; я буду служить ей в меру своих возможностей, заставлю ее восторжествовать в меру своих сил или умру за нее – это единственное мое желание. Отчего я сегодня так спокоен и горд собой? Оттого, что, хотя мое сердце обливалось кровью, я засвидетельствовал свое глубокое почтение закону, который я сам установил.
Он остановился на миг, желая убедиться, что мальчик слушает его внимательно; Шарль ловил каждое из слов, срывавшихся с уст этого могущественного человека, как будто ему предстояло передать их потомкам.
Сен-Жюст продолжал:
– После постыдной паники Айземберга я вынес постановление, согласно которому каждому солдату, а также низшим и высшим офицерским чинам надлежит спать в одежде. Во время моей утренней поездки я радовался, что снова увижу одного своего земляка из департамента Эна; как и я, из Блеранкура, как и я, воспитанника суасонского коллежа; его полк вчера прибыл в селение Шильтигем. Итак, я примчался в эту деревушку и спросил, в каком доме остановился Проспер Ленорман. Мне указали этот дом, и я устремился туда; его комната располагалась на втором этаже, и, хотя я прекрасно умею обуздывать свои чувства, мое сердце подпрыгивало от радости, когда я поднимался по лестнице, – от радости, что я наконец увижу друга после пятилетней разлуки. И вот я вхожу в первую же комнату и зову:
«Проспер! Проспер! Где ты? Это я, твой товарищ Сен-Жюст».
Не успел я вымолвить эти слова, как дверь открывается и молодой человек в одной сорочке бросается в мои объятья с возгласом:
«Сен-Жюст! Мой дорогой Сен-Жюст!»
Я прижал его к своей груди, обливаясь слезами, ибо моему сердцу был нанесен страшный удар.
Мой друг детства, которого я не видел пять лет, тот, к кому я сам примчался, настолько мне не терпелось снова его увидеть, этот человек нарушил приказ, изданный мною три дня назад, и заслуживал смертную казнь. И тогда мое сердце покорилось силе моей воли и, в присутствии свидетелей этой сцены, я сказал спокойным голосом:
«Я воздаю Небесам двойную хвалу за то, что снова увидел тебя, мой дорогой Проспер, а также за то, что могу преподать другим урок повиновения закону и величественный пример справедливости, когда, пожертвовав дорогим мне человеком, приношу тебя в жертву общественному благу».
С этими словами я повернулся к тем, кто меня сопровождал.
«Исполните свой долг!», – приказал я им.
Снова, теперь уже в последний раз, я обнял Проспера, и по моему знаку его увели.
– Зачем? – спросил Шарль.
– Чтобы расстрелять. Разве не было запрещено под страхом смертной казни спать раздетым?
– Но ведь ты его помиловал? – спросил Шарль, взволнованный до слез.
– Десять минут спустя его не стало. Шарль вскрикнул от ужаса.
– Бедный ребенок, у тебя еще мягкое сердце; читай Плутарха, и ты станешь мужчиной. Ах да! Что ты делаешь в Страсбург?
– Я учусь, гражданин, – ответил мальчик, – и приехал сюда всего лишь три дня назад.
– Чему же ты учишься в Страсбуре?
– Греческому.
– Мне кажется, что более логично изучать здесь немецкий язык; к тому же зачем тебе греческий, если лакедемоняне вообще ничего не написали?
С минуту он молчал, глядя на мальчика с любопытством, а затем снова спросил:
– И кто же этот ученый, что берется давать уроки греческого в Страсбуре?
– Евлогий Шнейдер, – отвечал Шарль.
– Как! Евлогий Шнейдер знает греческий? – удивился Сен-Жюст.
– Это один из первых эллинистов Германии, он перевел Анакреонта.
– Кёльнский капуцин! – воскликнул Сен-Жюст. – Евлогий Шнейдер – переводчик Анакреонта! Ну что ж, ладно! Ступай учить греческий у Евлогия Шнейдера… Если бы я знал, – продолжал он звенящим голосом, – что ты должен учиться у него чему-то другому, я велел бы тебя задушить.
Ошеломленный этим выпадом, мальчик замер, прижавшись к стене и слившись с фигурами украшавшего ее гобелена.
– О! – вскричал Сен-Жюст, распаляясь все сильнее, – такие вот торговцы греческим, как он, губят святое дело Революции. Именно они выносят постановления об аресте тринадцатилетних детей только потому, что эти дети живут в той же гостинице, где полиция выявила двух подозрительных приезжих, и таким образом эти мерзавцы хвастают тем, что заставляют любить Гору. Ах! Клянусь Республикой, что скоро положу конец проискам всех этих негодяев, которые изо дня в день покушаются на нашу драгоценнейшую свободу… Пора устроить показательный грозный суд, и я это сделаю. Они смеют попрекать меня тем, что я бросаю им слишком мало трупов на съедение, – я дам им больше. «Пропаганда» жаждет крови – она ее получит. И для начала я утоплю в крови ее собственных главарей. Пусть только случай предоставит мне благовидный предлог, пусть только закон будет на моей стороне – и они увидят!
Когда Сен-Жюст расставался со своей холодной невозмутимостью, он становился воплощением угрозы: его брови хмурились, ноздри раздувались, как у льва на охоте; его лицо делалось пепельным; казалось, он искал поблизости, кого бы или что бы сокрушить.
Тут в комнату поспешно вошел гонец, только что прискакавший верхом, что было нетрудно угадать по его одежде, забрызганной грязью, и, приблизившись к Сен-Жюсту, сказал ему шепотом несколько слов.
При этих словах лицо Сен-Жюста озарилось радостью, смешанной с недоверием; видно было, что новость, которую сообщил ему всадник, была настолько приятной, что он не решался поверить этому до конца.