Больше рецензий
20 марта 2024 г. 12:38
539
3 Манифест чаизма
РецензияВ этой книге под одной обложкой опубликованы две работы писателя и художественного критика конца XIX - начала XX века Окакура Какудзо: «Книга чая» и «Идеалы Востока: дух японского искусства». Изначально обе они были написаны на английском языке (и также изобилуют фразами на французском), поэтому естественно рассматривать их как адресованные западному читателю — начиная с 1904 года Окакура работал в Музее изящных искусств в Бостоне. При этом в первую очередь он известен как поборник сохранения традиционной японской культуры (для Японии начала прошлого века тема это была остроактуальная).
«Книга чая», как легко догадаться, посвящена не чаю в его обыденном понимании и даже не японской чайной церемонии, как можно было бы ожидать, несмотря на то, что Окакура рассматривает отдельные её аспекты: историю возникновения, убранство чайного домика и долженствующую царить в нём атмосферу, цветы, утварь. Нет, Окакура наполняет слово «чай» и производный от него термин «чаизм» (который, насколько я могу судить, за пределы этой работы так и не вышел) другим, абстрактным смыслом: в его изложении «чай»/«чаизм» — что-то вроде синтеза философских и эстетических положений, уникального мировоззрения, характерного для национального японского духа. Не буду врать, что я до конца поняла, что хотел сказать автор; возникает подозрение, что он и сам не до конца понял — у меня всегда возникает такое подозрение, когда я вижу обильные нагромождения красивых и пафосных фраз в нехудожественном произведении.
«Книга чая» — произведение скорее поэтичное, нежели программное, читать её легко и приятно. И я как любительница чая в самом что ни на есть обыденном смысле всегда готова поддержать и разделить любование чайной эстетикой и привнести в свою жизнь немного — а лучше много — «чаизма». Но я совершенно точно не стала бы использовать «Книгу чая» как источник сведений — о чае ли, чайной церемонии, или же о традиционном японском мировоззрении; для этого есть источники намного более внятные и информативные.
«Идеалы Востока», если судить по оглавлению, содержат в себе краткий обзор традиционного японского искусства по периодам. Если же судить непосредственно по тексту, который представляет собой всё то же нагромождение красивых и пафосных фраз друг на друга, то это опять что-то вроде манифеста, долженствующего представить Японию, объединившую в себе достижения индийской науки и китайской духовности (а также индийской духовности и китайской науки), как флагман паназиатской культуры. Для обоснования своей позиции автор вдохновенно и беспорядочно использует факты из истории философии, искусства и религии, а также из истории вообще. При этом пытаться составить по этой книге представление о японском искусстве крайне — крайне! — неудачная затея. Во-первых, потому, что автор нередко добросовестно заблуждается: с момента написания «Идеалов Востока» прошло более ста лет, за это время прояснились многие неясные на начало XX века вопросы. Во-вторых, там, где автор не заблуждается, он практикует творческий подход, не всегда уместный в вопросах истории; мне на самом деле очень понравилась идея о скифском происхождении Будды Гаутама — «Да, скифы — мы!» — но реальных оснований она под собой, увы, не имеет. В-третьих, видимо, в стремлении сделать книгу более понятной для западного читателя, автор приводит нелепые и неуместные параллели с европейской культурой, отождествляя Минамото-но Ёсицунэ с королём Артуром, а культ Прекрасной Дамы — с феноменом восточных гаремов(!). На мой взгляд, книга стала бы более понятной, если бы автор отказался от пассажей вида «китайский разум, представленный неоконфуцианцами, а следом за ними и японцы времен Асикага, шагнули в область индийской духовной сущности и прониклись гармоническим коммунизмом конфуцианской мысли», но это моё личное мнение, я его никому не навязываю. В общем и целом можно сказать, что Окакура Какудзо отбирал только те факты, которые ему удобны, интерпретировал их так, как ему нравилось, и получилось то, что получилось.
Я уже упомянула, что Окакура Какудзо был активным поборником сохранения японской национальной культуры. Так вот, в процессе чтения я пришла к мысли, что слово «поборник» было бы уместнее заменить словом «проповедник» — пыл он демонстрирует практически религиозный, и уровень аргументации, к сожалению, соответствующий.

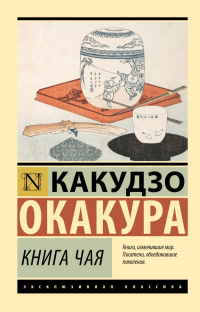
Комментарии
Значит, торопиться не буду с чтением. А то озон навязывает эту книгу.
Озону лишь бы продать)
Интересно, что азиаты и сейчас так порой пишут научные тексты. За японцев не скажу, а вот статьи китайских авторов периодически читаю, и часто они именно так и написаны, что по стилю, что по содержанию.
Посматривала на книгу, но, похоже, отложу пока.
Спасибо за рецензию :)
Тогда вы из этой книги точно ничего нового не почерпнёте, а вот у меня культурный шок был)