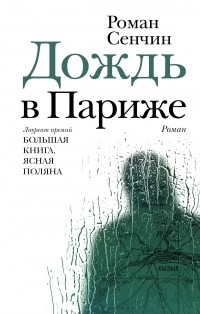Больше рецензий
28 июня 2018 г. 20:32
913
2 Бонжур, блин!
РецензияЕсли автору не о чем написать роман, а написать всё-таки нужно, есть отличный выход: придумать рефлексирующего неудачника, одинокого, тоскующего, вспоминающего своё прошлое, ушедшую молодость, бросивших его женщин, несбывшиеся надежды юности. Далее – описать счастливое советское прошлое, несчастное постсоветское прошлое, беспросветное постпостсоветское настоящее. А чтобы роман хоть как-нибудь выделялся из общей массы подобной литературы, автору следует придумать какую-нибудь «фишечку». Например, отправить рефлексирующего героя на Луну. На худой конец – в Париж.
Именно так и поступает Сенчин, потому как многообещающее название книги необходимо исключительно для привлечения – нет, не читателя – покупателя. Парижу в романе как бы и нет, от Парижу во всей книге – только «бонжур», «бонжур», «бонжур», звучащее повсюду, куда бы герой ни сунулся. А суётся он или в супермаркет, или в кафе, потому как если в Париже дождь, то остаётся герою только одно: пить и рефлексировать. А читателю-покупателю – терпеть нудного героя и однообразное повествование. Однообразное, потому что на протяжении всей книги Сенчин использует один и тот же приём: главка начинается с краткого описания пребывания героя в Париже, потом следует переход типа «попробовал французской выпивки, а вот раньше выпивка была...» или «в парижском кафе почему-то вспомнился фильм «Жилец», а фильм этот Андрей посмотрел...», после чего идёт очередная порция воспоминаний. И так – всю книгу, раз сорок-пятьдесят. С непрошибаемым занудством автор всё применяет и использует, использует и применяет этот сюжетный ход, словно мантру бубнит. Так что к середине книги возникает чувство читательско-покупательской обречённости. Но ещё раньше перестаёшь верить автору.
Ну не верится в то, что впервые выехавший в Париж герой будет без просыху пить в номере и неприкаянно слоняться по улицам. С чего бы это на человека, бросившего привычную рутину и поехавшего развеяться, должны навалиться тягостные воспоминания?.. Не верится, что в том пьяно-сомнамбулическом состоянии, в которое погрузил героя Сенчин, память человека способна так продуктивно работать, что сам герой за пять дней навспоминал аж на целую увесистую книгу.
С прошлым горе-героя тоже много странного. Если он неудачник, то почему так легко добивается женщин? Три жены и мимолётных связей без счёта – не многовато ли для такого вялого во всём остальном мужчины? А если после унизительного развода с первой женой он преодолевает психологический кризис и становится вполне успешным продавцом-консультантом в престижном салоне одежды и аксессуаров, то зачем ему увольняться из салона и идти работать в пункт проката байдарок? Ради очередного сюжетного поворота, который выдумал ему нескладно фантазирующий автор?..
И даже тувинские реалии в интерпретации Сенчина вызывают недоумение. Этническая проблема в современной Туве стоит крайне остро: тувинцы вытесняют русских, в отношениях между людьми царит дух этнической сегрегации. Но неужели подобная обстановка была и в конце 70-х, в начале 80-х? Неужели в школьные годы герой романа не общался с тувинцами? Неужели и тогда чувствовалась межнациональная напряжённость? В книге единственный тувинец, который по-человечески общается с главным героем, – это продавец туристического инвентаря. И всё...
Финал романа выхолощен донельзя: провспоминав и пропьянствовав пять дней, не приняв никакого решения относительно собственного будущего, герой садится в автобус: «Пора было возвращаться домой». И это изумляет, потому что ближе в концовке Сенчин пытается объяснить поведение своего неудачника, не желающего уехать из Тувы: «Но что-то держит здесь русских... Одних – денежная должность и грядущая солидная пенсия, других – тиски бедности, не дающие сдвинуться с места, а третьих – странная, необъяснимая сила. Может, любовь, неосознанная, противоестественная для европеоида...» А через несколько страниц – про «Чевенгур», «про маленького зрителя, который живет в каждом человеке». Но всё это повисает в воздухе, никак не связанное с героем и его близкими, несмотря на лирическое описание поездки его семьи на озеро Сватиково. Думается, что сам Сенчин, успешный писатель российского, а не тувинского масштаба, написал роман о том, кем он мог бы быть (учитывая совпадения биографий автора и главного героя), но кем он не захотел быть. Поэтому при чтении текста возникает интуитивное неверие в слова автора.
Язык книги живой, разговорный, местами даже чересчур. «Топкин глянул время в телефоне». «Топкин взбодрился, в голове согрелось, прояснилось». Правда, нередко Сенчин громоздит сложные конструкции, в которых сам же путается. Вместо «сутки через двое проводит бывший брейкер в тюрьме на правом берегу» автор завернул: «И теперь, одевшись в камуфляж, сутки через двое проводит бывший брейкер, меломан, звезда дискотек, мечта девчонок в тюрьме на правом берегу, среди охранников, заключенных, надзирателей разных, колючки, решеток...» И получается: девчонки в тюрьме на правом берегу. Или: «Топкин видел себя играющим с маленьким сыном, учащим его ходить, читающим на ночь сказки и стишки». Маленький сын учил Топкина ходить, читал ему на ночь сказки и стишки.
Но главный речевой недостаток повествования не в этом, а в постоянно повторяющемся междометии «блин», которое в речи героев встречается немного чаще, чем дежурное «бонжур». Ну и бонжуркают исключительно французы, а блинкают исключительно русские. Так что в конце так и хочется воскликнуть: «Бонжур, блин!»